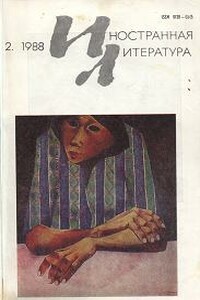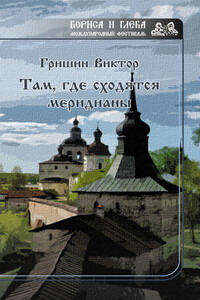Сегодня случайный посетитель объяснит эти звуки присутствием в доме Парвати, а не ее матери. Но Парвати ступает легко и никогда ничего не разобьет (разве что сердце какого-нибудь молодого человека). Парвати — это другая повесть, и присутствует она здесь как бы начерно, что, впрочем, вполне ее устраивает, поскольку она застенчива и, видимо, еще не сталкивалась с жизнью всерьез, а тем более не преобразила ее силою своей личности. Неожиданно набрести на нее, когда она стоит, одна в какой-нибудь из комнат дома Макгрегора или сидит в тени в саду, обрывая лепестки цветка, — увидеть ее лицо, выражающее глубокую, но смутную радость (смутную потому, что при всей глубине этой радости источник ее далеко отсюда, в каком-то ей одной ведомом мире, что колеблется на грани между девичьими иллюзиями и более взрослыми суждениями), услышать, как она рано утром или вечером упражняется в пении, с каким усердием и серьезностью приступает к трудной фразе, как тихонько вскрикивает от огорчения, когда фраза не удалась, и начинает сначала, — значит унести с собой из дома Макгрегора образ Парвати, девушки, как нельзя лучше вписавшейся в свой антураж, где всегда можно ждать, что любая повесть не кончена, а будет иметь продолжение, и образ леди Чаттерджи — хранительницы традиции, рожденной из уважения не столько к прошлому, сколько к будущему.
— Вот уж не знаю (говорит леди Чаттерджи, когда напоследок обходит с гостем свои владения, опираясь на его руку, свободной рукой заслоняясь от предвечернего солнца, а Шафи уже подал машину, чтобы заблаговременно доставить его в аэропорт). Хранительница — это вроде как хранилище, склад, куда сдаешь мебель, когда переводят в другой гарнизон. Англичанин, наверно, мог бы сказать, что вся Индия стала таким хранилищем. Вы все ушли, но оставили после себя столько всего, что не могли с собой унести, а теперь тем из вас, кто возвращается, обычно не до того, чтобы подумать об оставленном добре, и уж подавно не до того, чтобы попросить ключ и пойти рыться среди старых чехлов, проверять, все ли уцелело и не превратилось в труху! — И спрашивает после паузы: — Парвати с вами простилась как полагается?
Да, Парвати простилась и теперь сбегает по ступенькам веранды (с опозданием, потому что живет по майапурскому времени, а не по индийскому стандартному), бежит на вечерний урок к своей гуру, которая пела в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, а теперь берется обучать только самых перспективных учениц, девушек, наделенных и талантом и трудолюбием, которого должно хватить на восьмигодичный курс обучения. Возможно, когда-нибудь и Парвати будет петь в этих западных столицах, а потом и сама станет гуру и будет посвящать новое поколение девушек в технические трудности исполнения тех песен, про которые ее мать-англичанка когда-то сказала, что это единственная в мире музыка, которая словно сознательно нарушает тишину, а отзвучав, возвращается в нее обратно. Перед тем как ее бледно-розовое сари исчезает за калиткой, она чуть замедляет бег и машет рукой, и гость машет ей вслед, желая удачи на вечернем уроке. Дважды в день она так бегает, а в промежутках часами упражняется у себя в комнате. Иногда появляется молодой человек с двойным барабаном «табла» и помогает ей, отбивая такт, в другие же дни она сама себе аккомпанирует, четко ударяя гибкими пальчиками по струнам пузатой «тампуры». Кожа у нее самого бледного коричневого оттенка, а в длинных черных волосах при определенном освещении переливаются рыжеватые блики, что чаще можно увидеть на севере.
О слуги моего отца, несите сюда паланкин,
Я отбываю в дом моего супруга.
Все мои подруги разлетелись,
Разъехались в разные стороны.
Утренняя песня