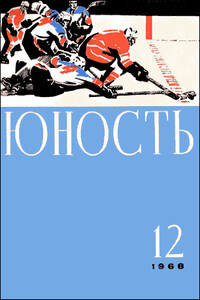Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики - [6]
В Афинах — этом главном центре эллинской демократии того времени, где верховная власть принадлежит Народному собранию (в котором могут принимать участие все свободные граждане мужского пола, достигшие 20 лет), такими органами являются совет пятисот, суд присяжных, коллегия из 10 стратегов (ведавшая военными делами). Эти органы принимают все важные решения, ассигнуют общественные средства на те или иные строительные работы, подписывают мир или объявляют войну; войти в них может каждый, члены их сменяются, но имеются авторитетные и богатые люди, которые фактически руководят всем. Многие стремятся попасть в число таких могущественных лиц.
Но это не просто, здесь играют роль многие факторы. Выступая в Народном собрании или совете, произнося речь в качестве обвинителя или защищая себя в суде, надо уметь говорить убедительно, тонко иронизировать над своими противниками, последовательно и неотвратимо подводить слушателей к желаемому выводу. Если говорить «только правду и ничего, кроме правды», разве всегда можно добиться этого? Ведь сколько в толпе слушателей, столько и разных представлений о правде. А вот правила рассуждения, правила умозаключений одни и те же у всех...
Вот и судите, были ли несерьезными упражнения в красноречии, которыми занимались государственные деятели Древней Греции, по легкомыслию ли платили огромные деньги софистам, чтобы научиться искусно плести формальные узоры аргументации. От этого искусства часто зависели судьбы тысяч людей, и. вероятно, мало было в то время вложений более окупающихся, чем плата учителям красноречия. И не естественно ли предположить, что при таких условиях уже задолго до Аристотеля эти профессиональные «натаскиватели» будущих публичных ораторов имели представление об основных законах формальной логики.
В конце второго тома упомянутого издания Сочинений Платона есть диалог «Парменид», который известный специалист по классической филологии и античной философии А. Ф. Лосев считает одним из самых значительных произведений не только античной, но и мировой диалектики[5]. В нем изображена встреча и беседа совсем еще молодого (16 или 20 лет) Сократа со знаменитыми на всю Грецию элейскими философами Парменидом (род. в 540/39 или в 515 г. до н. э.) и Зеноном (около 490—430 гг.). В беседе этих гигантов античной мысли (состоялась ли она на самом деле, это не известно) речь идет уже о вещах совершенно отвлеченных, далеких от личных, бытовых или общественных проблем, от вопросов морали, гражданственности или добродетели. Начинает разговор Сократ.
«— Как это ты говоришь, Зенон? Если существует многое, то оно должно быть подобным и неподобным, а это, очевидно, невозможно, потому что и неподобное не может быть подобном, и подобное — неподобным. Не так ли ты говоришь?
— Так.— ответил Зенон.
— Значит, если невозможно неподобному быть подобным и подобному — неподобным, то невозможно и существование многого» ибо если бы многое существовало, то оно испытывало бы нечто невозможное? Это хочешь ты сказать своими рассуждениями? Хочешь утверждать, вопреки общему мнению, что многое не существует? И каждое из своих рассуждений ты считаешь доказательством этого, так что сколько ты написал рассуждений» столько, по-твоему, представляешь и доказательств того, что многое не существует? »[6].
Нам сейчас нелегко сразу сообразить, о чем идет здесь речь. Но для Парменида и Зенона такого типа рассуждения — родная стихия. Они понимают Сократа с полуслова, сразу признают в нем «своего человека», понимающе переглядываются между собой и улыбаются в знак восхищения способным юношей. Дискуссия разгорается всерьез, и начинает обсуждаться основной для философской системы Платона вопрос об идеях (эйдосах), будто бы являющихся образцами и целью всех существующих вещей, и об их свойствах.
Эти страницы сочинений Платона представляют собой, выражаясь современным языком, его главную научную публикацию, оказавшую очень большое влияние на дальнейшее развитие философской мысли. Но неужели философскую теорию такого ранга можно было изложить простым языком, без всяких формул, без специальной символики? Неужели совершенно неправ был Кант, когда сказал, что всякая наука настолько наука, насколько в ней заключено математики?[7]
К словам Канта мы еще вернемся. Здесь же постараемся разобраться в том, какие средства использует Платон в «Пармениде» для формулировки своей теории идей, и являются ли эти средства теми же самыми, которые «работают» в обыденном мышлении и естественно сложившемся разговорном языке. Впрочем, ответ на второй вопрос вряд ли может вызвать затруднения. В повседневной речи не часто услышишь «подобное не может быть неподобным» или «если бы многое существовало, то оно испытывало бы невозможное». Мы не хотим сказать, что люди не употребляют в обиходе ничего, кроме конкретностей, совсем нет, все и повсюду широко прибегают к отвлеченным понятиям, таким, как «необходимость» или «кривизна», но сравнительно недалеко за ними обязательно стоит некоторая совокупность конкретных объектов или ситуаций реального мира.
В цитированном же отрывке из Платона (как и на протяжении всего «Парменида») фигурируют абстракции столь высокого уровня, что они не могут быть пригодными для обычной коммуникативной или информативной речи. Тем не менее Сократ уверенно оперирует этими абстракциями, а Парменид и Зенон большей частью одобрительно кивают головами, но иногда без особых церемоний прерывают его рассуждение и указывают, как нужно его исправить. В этих случаях они замечают в рассуждении Сократа какую-то ошибку, улавливают промах. Вот это-то и может показаться самым поразительным: ведь разговор идет о настолько непонятных и туманных объектах, что, казалось бы, им можно приписать какие угодно свойства и какое угодно поведение.
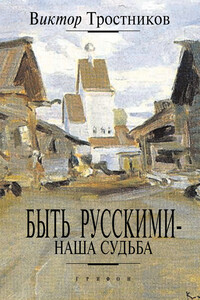
Новая книга В.Н. Тростникова, выходящая в издательстве «Грифон», посвящена поискам ответов на судьбоносные вопросы истории России.За последнее десятилетие мы восстановили и частную собственность, и свободу слова, ликвидировали «железный занавес»… Но Запад по-прежнему относится к нам необъективно и недружественно.Ожесточаться не нужно. Русские – самый терпеливый народ в мире, и мы должны перетерпеть и несправедливое отношение к себе Запада. Ведь придёт час, когда Запад сам поймёт необходимость заимствовать у нас то, что он потерял, а мы сохранили, – Христа.Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Бирюков Борис Владимирович — доктор философских наук, профессор, руководитель Межвузовского Центра изучения проблем чтения (при МГЛУ), вице-президент Русской Ассоциации Чтения, отвечающий за её научную деятельность.Сфера научных интересов: философская логика и ее история, история отечественной науки, философия математики, проблемы оснований математики. Автор и научный редактор более пятисот научных трудов, среди них книги, входящие в золотой фонд отечественной историко-научной и логической мысли. Является главным научным редактором и вдохновителем научного сборника, издаваемого Русской Ассоциацией Чтения — «Homo legens» («Человек читающий»).

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.
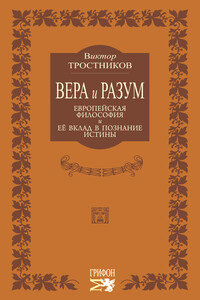
Автор книги – известный религиозный философ – стремится показать, насколько простая, глубокая и ясная вещь «настоящая философия» – не заказанное напористой и самоуверенной протестантской цивилизацией её теоретическое оправдание, а честное искание Истины – и как нужна такая философия тем русским людям, которые по своей натуре нуждаются в укреплении веры доводами разума.В форме увлекательных бесед показаны не только высоты и бездны европейской философии, но и значительные достижения русской философской школы, уходящей своими корнями в православное мировосприятие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
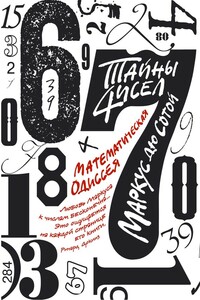
«Умение математиков заглядывать в будущее наделило тех, кто понимает язык чисел, огромным могуществом. От астрономов древних времен, способных предсказать движения планет в ночном небе, до сегодняшних управляющих хедж-фондами, прогнозирующих изменения цен на фондовом рынке, – все они использовали математику, чтобы постичь будущее. Сила математики в том, что она может гарантировать стопроцентную уверенность в свойствах мира». Маркус дю Сотой Профессор математики Оксфордского университета, заведующий кафедрой Симони, сменивший на этой должности Ричарда Докинза, Маркус дю Сотой приглашает вас в незабываемое путешествие по необычным и удивительным областям науки, лежащей в основе каждого аспекта нашей жизни. В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.
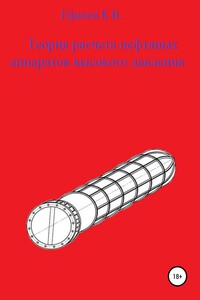
Монография по теории расчета нефтяных аппаратов (оболочек корпусов). Рассмотрены трехмерная и осесимметричная задачи теории упругости, реализация расчета методом конечных элементов. Написана для обмена опытом между специалистами. Предназначается для специалистов по разработке конструкций нефтяного статического оборудования (емкостей, колонн и др.) проектных институтов, научно-исследовательских институтов, заводов нефтяного машиностроения, инжиниринговых компаний, профессорско-преподавательского состава технических университетов.
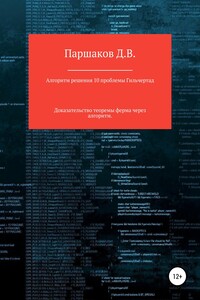
Всем известно, что существуют тройки натуральных чисел, верных для Теоремы Пифагора. Но эти числа в основном находили методом подбора. И если доказать, что есть некий алгоритм нахождения этих троек чисел, то возможно утверждение о том, что 10 проблема Гильберта неразрешима ошибочно..
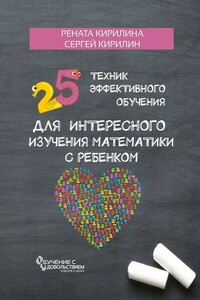
Как помочь ребенку полюбить математику? Эта книга поможет вам и вашим детям взглянуть по-новому на изучение математики, закрыть пробелы в знаниях и превратить учёбу в удовольствие.

В пособии конспективно изложен школьный курс геометрии. Приведены комплекты экзаменационных билетов, задачи и их решения, распределённые по различным уровням сложности.Материалы пособия соответствуют учебной программе школьного курса геометрии.Для учителей и учащихся 9-х классов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.