Зеркало. Избранная проза - [223]
Последний день перед отъездом. Магазины, проводы. И самое последнее — хорошенько выспаться перед путешествием в последний раз в парижской квартире. Все удается, на все хватает времени. Покупки закончены, проводы, речи, даже слезы Терезы, которая все-таки умудряется поймать его у входа в ресторан и тут же на улице разыграть мелодраму: «Я ищу тебя повсюду». В ней ничего не осталось от суховатой подтянутости, от «черного лебедя». Даже мех, и тот дрябло, по-старушечьи, свисает с сутулящихся плеч. Ему кажется, что она плачет, хотя ее глаза сухи. Он с любопытством присматривается. Морщинки под глазами идут длинными стрелами ко рту и создают иллюзию плача. Но сейчас же, будто не нуждаясь в иллюзии, желая играть честно, слезы выступают на ресницах и уже текут по щекам.
— Так расстаться? Так?
— Но почему иначе, а не так?
Вопрос на вопрос. Она впервые плачет при нем.
— Я не знал, что ты так некрасиво плачешь.
Острая радость от доставляемой ей боли та же, как от примерки фрака, и та же мысль: «А мог уже умереть, и этого не было бы». И никогда не испытанное прежде желание мести, но за что? И Тереза понимает
— За что ты мстишь мне? Неужели?..
Он перебивает ее.
— В твоем возрасте нельзя себе позволять плакать.
— Ты зверь, Тьери, ты хуже зверя, — те же слова, что в ту ночь в Венеции, но тон совсем не похож, не победительный, побежденный. — Неужели ты так ничего и не скажешь мне на прощание?
Он поднимает шляпу. Он низко кланяется ей.
— До свидания, — говорит он. — До очень нескорого свидания.
Она еще хочет сказать что-то, она комкает в руках платок. Он, улыбаясь, смотрит на нее. Она стоит на тротуаре у входа в ресторан, по улице проезжают автомобили, идут прохожие, швейцар с поклоном открывает дверь ресторана перед посетителями. А она стоит и плачет, будто она одна в собственной спальне. Это совсем как в фильме. И тот же привкус фальши, в котором нельзя разобраться, что, собственно, фальшиво. Удивительно правильно изображают иногда страдание в фильмах. Она что-то говорит, но он не слушает. Он останавливает такси, помогает ей сесть в него.
— Будь счастлива.
Это звучит насмешкой, но он действительно желает ей счастья, тем более что от его пожелания ничего не изменится. Несчастна она и так будет.
Последняя ночь в Париже, последний до-океанский сон.
Тьери просыпается от грохота грузовика, собирающего мусор. Обыкновенно он не слышит, он крепко спит. Но сегодня сон такой неплотный, непрочный, незащищающий, как вдребезги сношенное, дырявое пальто. В дыры врывается грохот, и сон трещит и рвется. Теперь он совсем проснулся. Какой это был томительный сон. Надо было вспомнить, отыскать что-то, неизвестно что. На поиски ушла вся ночь, и все-таки ничего не найдено. И теперь, прислушиваясь к громыханью цинковых ведер, к пулеметному стуку мотора там, на улице, за окном, Тьери напряженно вспоминает, не забыл ли он действительно чего-нибудь важного, необходимого? Нет, все в наилучшем, наичистейшем порядке — визы, покупки, распоряжения, даже прощания.
И все-таки по гулкому беспокойству крови он чувствует, что осталось еще что-то необходимое. Он уедет, и тогда будет поздно. Надо непременно вспомнить, пока не поздно. От волнения трудно лежать, он встает, надевает свой хрустящий халат, причесывается твердой щеткой так настойчиво и долго, будто надеется вычесать из памяти название того, что ему нужно и что никак не удается вспомнить. Он роется в своей памяти, как в цинковом мусорном ведре. Роется по-обезьяньи руками и ногами, пробует на вкус, на нюх всю эту ненужную дрянь, эту картофельную шелуху, эти обглоданные кости, пустые консервные банки, просаленные газеты… Но как найти, когда не знаешь, что ищешь? Он идет в кабинет. На столе лежат журналы и письма. Он вскрывает письма. Та же картофельная шелуха, те же пустые банки — мусор, совсем не то, совсем ненужное. Он берет кинематографический журнал. На обложке во всю страницу портрет Люки в белом платье, в широкополой черной шляпе, улыбающейся, счастливой, живой. Да, именно живой. Ощущение жизни, которое он так отчетливо чувствовал в ее присутствии, не просто жизни, а какой-то удачной, победительной, непобедимой жизни… И она все-таки умерла. Тьерри пожимает плечами. Он хорошо знает эту фотографию, вырезанную из фильма, он смотрит на нее, как когда-то смотрел на портреты царей и полководцев в учебнике истории, с равнодушным любопытством. Он раскрывает журнал. Снова Люка, Люка в пятнадцать лет, в школе, в черном переднике, с идеально детским невинным лицом. Северная девочка со светлыми глазами, светлыми волосами на преувеличенно длинных, преувеличенно стройных ногах. Ноги Люки, они и потом остались почти такими же. Рабочие в студии называли ее «барышня с ногами серны». Обыкновенно говорят «глаза серны». Принято, что серна служит для сравнения глаз, а не ног. Но глаза Люки совершенно непохожи на глаза серны — сонные, нежные, травоядные. Глаза Люки похожи… Не все ли равно теперь, на что они были похожи, раз их больше нет. В голову лезет всякий вздор о сернах, о ногах, а уже без пяти восемь и надо торопиться, надо вспомнить. Он кладет раскрытый журнал на стол, он встает, он шагает по комнате. Надо сосчитать до ста, не напрягаясь, — то, что он ищет и чего не может вспомнить, само выскочит, выпадет из памяти между двумя числами. Он считает громко, шагая в такт. «Сто двадцать пять». И останавливается. Перед глазами скачут цифры, красные, круглые, на желтом фоне, с легким треском сменяя друг друга. Он садится за стол. Может быть, то, что он ищет, скорее найдет контакт с бумагой. Он берет стило

В потоке литературных свидетельств, помогающих понять и осмыслить феноменальный расцвет русской культуры в начале XX века, воспоминания поэтессы Ирины Одоевцевой, несомненно, занимают свое особое, оригинальное место.Она с истинным поэтическим даром рассказывает о том, какую роль в жизни революционного Петрограда занимал «Цех поэтов», дает живые образы своих старших наставников в поэзии Н.Гумилева, О.Мандельштама, А.Белого, Георгия Иванова и многих других, с кем тесно была переплетена ее судьба.В качестве приложения в книге пачатается несколько стихотворений И.Одоевцевой.

Переписка с Одоевцевой возникла у В.Ф. Маркова как своеобразное приложение к переписке с Г.В. Ивановым, которую он завязал в октябре 1955 г. С февраля 1956 г. Маркову начинает писать и Одоевцева, причем переписка с разной степенью интенсивности ведется на протяжении двадцати лет, особенно активно в 1956–1961 гг.В письмах обсуждается вся послевоенная литературная жизнь, причем зачастую из первых рук. Конечно, наибольший интерес представляют особенности последних лет жизни Г.В. Иванова. В этом отношении данная публикация — одна из самых крупных и подробных.Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-x гг.
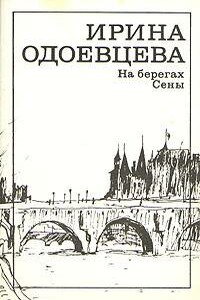
В книге «На берегах Сены» И. Одоевцева рассказывает о своих встречах с представителями русской литературной и художественной интеллигенции, в основном унесенной волной эмиграции в годы гражданской войны в Европу.Имена И. Бунина, И. Северянина, К. Бальмонта, З. Гиппиус и Д. Мережковского и менее известные Ю. Терапиано, Я. Горбова, Б. Поплавского заинтересуют читателя.Любопытны эпизоды встреч в Берлине и Париже с приезжавшими туда В. Маяковским, С. Есениным, И. Эренбургом, К. Симоновым.Несомненно, интересен для читателя рассказ о жизни и быте «русских за границей».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
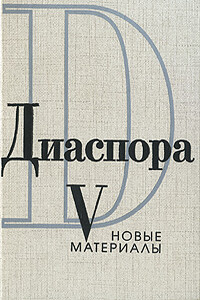
Из книги Диаспора : Новые материалы. Выпуск V. «ВЕРНОЙ ДРУЖБЕ ГЛУБОКИЙ ПОКЛОН» . Письма Георгия Адамовича Ирине Одоевцевой (1958-1965). С. 558-608.
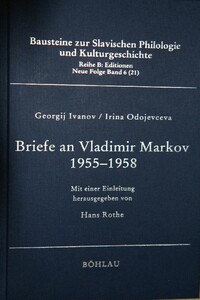
Настоящая публикация — корпус из 22 писем, где 21 принадлежит перу Георгия Владимировича Иванова и одно И.В. Одоевцевой, адресованы эмигранту «второй волны» Владимиру Федоровичу Маркову. Письма дополняют уже известные эпистолярные подборки относительно быта и творчества русских литераторов заграницей.Также в письмах последних лет жизни «первого поэта русской эмиграции» его молодому «заокеанскому» респонденту присутствуют малоизвестные факты биографии Георгия Иванова, как дореволюционного, так и эмигрантского периода его жизни и творчества.
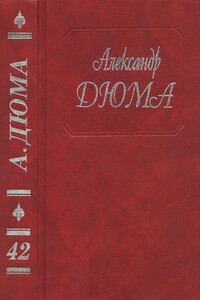
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
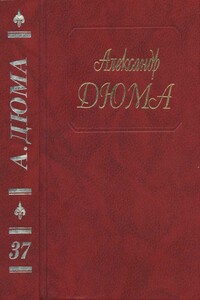
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
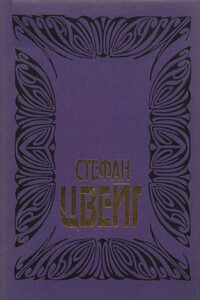
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
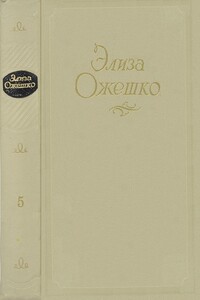
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».