Зелменяне - [8]
— Так пусть-таки знают, — сказал он, — что дочери Зиши, часовых дел мастера, выйдут замуж по всем еврейским законам и обычаям.
Возле него уже стояла тетя Гита и держала его за рукав — дядя Зиша был человеком болезненным. Но поскольку он заговорил, он должен был высказаться до конца: пусть его брат лучше заботится о собственной дочери Хае, чтобы она, бедняжка, в обществе ее сокровища не разучилась разговаривать.
Но почему у дяди Зиши побелел нос?
Дядя Зиша и тетя Гита
Дядя Зиша вошел к себе в дом молча. Было уже очень поздно. Сквозь низкие синие оконца просовывались серебряные проволочки от звезд. Он отворил дверь в другую комнату.
Там мерцал каганец. Тонька дяди Зиши, лежа в кровати, жевала хлеб и что-то учила по толстой книге.
Долго стоял дядя Зиша в полутьме, гладил бороду, не зная, с чего ему начать.
— Так что ты скажешь, Гита? — И он повернулся к тете, которая, как всегда, стояла возле него.
— Конечно, она не в своем уме, — ответила тетя. — Ведь в печке стоит горячий глек.
Дядя Зиша махнул рукой.
— До каких пор можно комсомолить? Вот что я спрашиваю.
Тогда Тонька не спеша повернулась к отцу:
— Ты, наверное, имеешь в виду меня?
— А если тебя, так что?
— Известно ли тебе, папа, о том, — приподнялась она, обнажив плечи зелменовской смуглости, — что двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года в одной шестой части мира произошла первая Великая пролетарская революция?
— Ну?
— Ну, так вот это я и хотела тебе сказать. — Она улыбнулась про себя и опять принялась за книгу.
Дядя Зиша стал против тети.
— Гита, ты слышишь? Береле нашего Ички стал главным заправилой…
— А ты бы хотел, чтобы Николайка был заправилой? — резко спросила его Тонька.
— А что? При Николайке, дурочка, думаешь, жилось людям плохо?
Тонька сердито сплюнула, бросила на пол свой ломоть хлеба, потушила свет, повернулась к стене и укрылась с головой.
Стало темно и тихо, оглушительно тихо. Лишь в смежной комнате разнобойное тикание множества часов дяди Зиши стекало со стен крупным дождем. Стало темно, хоть выколи глаз.
— Это так почитают родителей, а? — проговорил дядя Зиша сдавленным голосом.
Потом отец и мать лазали в потемках по дому, перекликались тусклыми, водянистыми голосами, и, кажется, тогда дядя Зиша резко осудил теперешние порядки.
Что за человек этот часовых дел мастер Зиша?
Прежде всего он человек болезненный. Сразу же после свадьбы дядя Зиша объявил всему свету о своей хворости, и все ее признали. Приходилось поддерживать его то бульонцем, то лимончиком. От его ремесла, по правде говоря, не разживешься. Тете Гите приходится еще вдобавок продавать нитки кооперативам. Если уж на то пошло, по-настоящему больна она, тетя Гита. У нее немало болезней, из которых две, как известно, она получила в наследство от своих раввинов, а четыре выпестовала сама, собственными силами. Врачи даже уверяют, что она долго не протянет, поэтому тетя Гита осторожна, и всякий раз, выходя из лавки, она тут же записывает, сколько ей задолжали, на случай, если это несчастье постигнет ее по дороге, ведь потом не будут знать, с кого взыскать за нитки.
Что же за создание эта тетя Гита?
Она высокая, худая, костлявая, все на ней застегнуто до последней пуговицы. Она молчаливая, как всякий Зелменов, но у нее молчание совсем иного рода — с шелковинкой, с налетом грусти и со святой голубизной из талеса. Бера, например, может человека убить своим молчанием, а когда тетя Гита усаживается, с тем чтобы помолчать несколько часов подряд, так это музыка, игра на скрипке.
После полуночи дядя Зиша поднял заспанную квадратную голову с подушки и стал будить жену:
— Сорка уже здесь? Я спрашиваю тебя, Сорка пришла?
Он имел в виду свою старшую дочь Соню, которая работает в Наркомфине.
Дядя Фоля
Дядя Фоля идет своим особым, трудовым путем в жизни.
Он молчит по трем причинам: во-первых, потому, что ему нечего сказать; во-вторых, потому, что он никого на дворе не признает; в-третьих, потому, что в детстве его обидели.
Тридцать пять лет тому назад ему было всего десять лет. Тогда с ним поступили по-злодейски, а именно — его высекли, его чуть не засекли до смерти.
Реб Зелмеле тогда еще торговал телятами; незадолго перед этим он прибыл из «глубин Расеи».
Дети — Зишка, Юдка, Ичка-козел — ходили по дворам собирать кости, а его, дядю Фолю, не брали с собой.
— Этого тетерю, — говорили они, — мы с собой не возьмем. Он невезучий.
И дядя Фоля втихомолку строил зловещие планы, чтобы ошарашить домашних; ходил молча по дворам, шарил в помойных ямах — настоящие кости не попадались, — и он оставался наедине со своими мрачными мыслями. Вообще, дядя Фоля с детства был замкнутой натурой.
Однажды вечером он пошел купаться. У самой реки, в яме, лежала ободранная лошадь. Дядя Фоля остановился, заглянул в немую темноту вспоротого брюха, оглядел задранные ноги, и вдруг ему стукнула в голову дикая мысль: «От этой лошади с ее костями можно разбогатеть!»
Чуть не плача он бросился домой за мешком.
Три дня он трудился, перетаскивая на спине куски лошади и запихивая их за печь.
Реб Зелмеле был как раз в то время на селе. Он вернулся на рассвете и, едва переступив порог, стал водить носом.
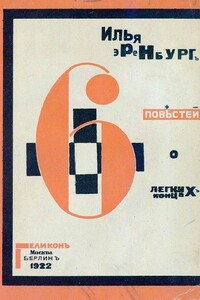
Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».
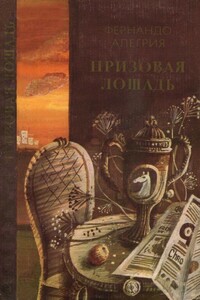
Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
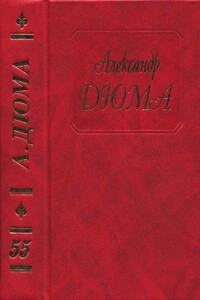
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
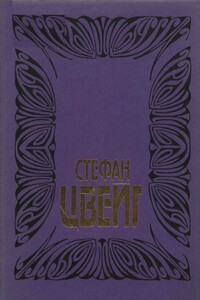
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».
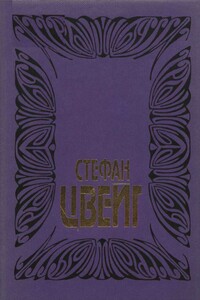
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».
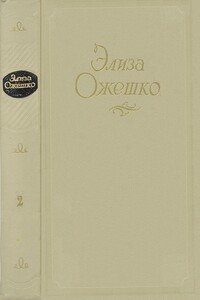
Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».
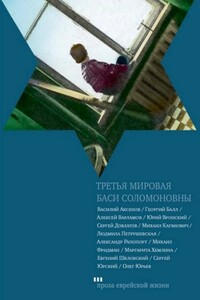
В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.
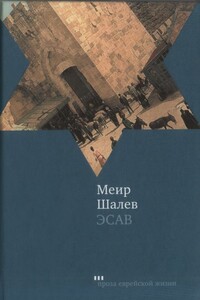
Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».
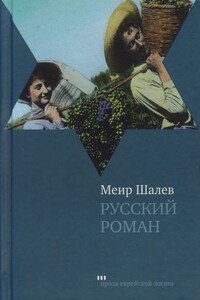
Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).
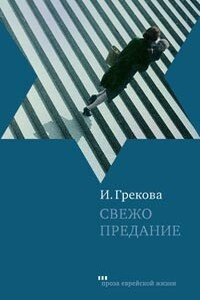
Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.