Затишье - [14]
Физически мы чувствовали себя в ту пору, несмотря на все мытарства, превосходно. Я — в особенности. В горах, на высоте свыше тысячи метров, я всегда чувствовал себя лучше, чем где бы то ни было. Марши ранними утрами и в вечерних сумерках, когда на горизонте громоздятся круглые темно-фиолетовые вершины гор, все эти солнечные восходы и заходы, чистые краски, прозрачный воздух, простые, изумительно серьезные крестьяне, у которых мы стояли на квартирах, небо, усеянное звездами, — какая отрада!
Нынче я думаю, что был дураком, ведь я кое-что создал и многое оставил, когда ушел на фронт. Но я обо всем начисто забыл и, видимо, не хотел оглядываться назад.
Кроме того, нам казалось, что война все же долго не протянется, особенно когда в наших глухих углах на стенах местных комендатур появились сводки о сражениях под Верденом. А было это в конце февраля. Помню, как сейчас, я стоял в толпе солдат, среди которых были молодой пехотный лейтенант и ротмистр драгунского полка. Ротмистр хлопнул себя рукой по ляжке и воскликнул: «Ну, теперь, видно, уже недолго ждать конца этой мерзости!»
В то мгновение внутренний голос не предрекал мне, что и мы будем иметь честь участвовать в сражении под Верденом, и все-таки… Вы знаете, как это быстро делается у пруссаков. Спустя несколько месяцев мы уже стояли на правом берегу Мааса, сменив на него берега Вардара, и уже не чинили дороги, а были приданы в качестве рабочих команд батареям тяжелых орудий под командой генерала пятого пехотного и могли считать себя воинами доблестной пятой армии германского кронпринца Фридриха Вильгельма.
Как ни странно, но мы с удовольствием променяли бы отличия, какими почтило нас новое начальство парка, на хорошую водку, чтобы согреть нутро. Нашим царством был теперь лагерь Штейнбергквель, обведенный высоким забором из колючей проволоки и расположенный на перекрестке дорог, ведущих в Флаба и Муарей. Это был целый лабиринт: штабеля гранат, ящики с порохом, покрытый дерном зеленый защитный вал, стены из проволочной сетки и молодые буки. На нашей обязанности лежало держать в порядке все это хозяйство и в случае необходимости расширять его и пополнять, о чем я еще буду иметь удовольствие докладывать вам.
Деревня Флаба, расположенная в сорока пяти минутах хода от лагеря, была разрушена до основания, но в погребах разместились наши столовые, обосновались солдаты. То же было и в деревнях Крепион и Муарей. Цепь холмов напротив нас называлась Корским лесом, а по ту сторону железной дороги Муарей — Азан мы позднее открыли еще деревни Жиберси и Романь. Парки нашего штаба в Дамвиллере протянулись на многие километры, разумеется, в тыл. Без специального пропуска нам запрещалось покидать наш рай, а пропуск, разъясняли нам, был не нашим правом, на которое мы могли претендовать, а только милостью. Такое положение удовлетворяло сладострастную жажду власти, живущую в мелкой душонке каждой канцелярской крысы; в этой милости нам почти всегда отказывали. Было желательно, чтобы мы расходовали свои деньги именно в ротном буфете, который в первое время очень скупо снабжался товарами. Прошли месяцы, прежде чем мы ознакомились с окрестными деревнями, которые я вам перечислил. Мы жили в бараках, примыкавших к парку, в полном смысле слова как узники военной тюрьмы или пленные нашей роты. Дальше парка, который со всеми его сооружениями занимал пол квадратного километра, нам не разрешалось шагу ступить. Тринадцать месяцев — для меня, конечно, — длилось такое существование. Отсюда я попал, смею сказать, в лучшую обстановку. — Он отвесил легкий поклон Винфриду и Понту, слушавшим его с живейшим интересом. Перед ними неожиданно открылся мир, о котором у них сложилось совершенно иное представление.
— Из этой тюрьмы вырывался либо тот, кто умел снискать расположение господина Глинского или даже Пане фон Вране, — продолжал Бертин, — либо тот, кого на много дней, недель, а то и месяцев приказом выбрасывали на передовые. Всю жизнь я не выносил никакого ограничения свободы, самого воздуха канцелярии; никогда не раболепствовал, не улещал ни проходимца фельдфебеля, ни убогой душонки какого-нибудь Грасника. Поэтому для меня существовал только один выход — на передовые. Я от всей души приветствовал его, когда он мне представился, и ни разу об этом не пожалел. Я расплатился своими нервами, своим здоровьем, я чуть не потерял рассудка, вы сами видите, что со мной стало. Но я научился распознавать, откуда ветер дует, и что происходит в человеческой душе, я увидел изнанку этой души, понял, на какое величие и на какую низость способен человек, и не жалею ни об одном часе, проведенном на войне — на войне, которую нам старались представить как защиту родины и которая требовала от нас, нестроевой серой скотинки, не принадлежавшей к сильным мира сего, безусловного повиновения и отдачи всех наших сил без остатка. Так мой корнеплод продолжал расщепляться, искать дыр в подошве и нащупывать выход. Если бы я оставался в парковом лагере, я наверняка не выдержал бы более четырех-пяти месяцев. И тогда наступила бы катастрофа. Я, несомненно, швырнул бы тяжелым предметом в какую-нибудь отъевшуюся морду. Этого не случилось. Как я уже сказал, меня спасла борода…

Историю русского военнопленного Григория Папроткина, казненного немецким командованием, составляющую сюжет «Спора об унтере Грише», писатель еще до создания этого романа положил в основу своей неопубликованной пьесы, над которой работал в 1917–1921 годах.Роман о Грише — роман антивоенный, и среди немецких художественных произведений, посвященных первой мировой войне, он занял почетное место. Передовая критика проявила большой интерес к этому произведению, которое сразу же принесло Арнольду Цвейгу широкую известность у него на родине и в других странах.«Спор об унтере Грише» выделяется принципиальностью и глубиной своей тематики, обширностью замысла, искусством психологического анализа, свежестью чувства, пластичностью изображения людей и природы, крепким и острым сюжетом, свободным, однако, от авантюрных и детективных прикрас, на которые могло бы соблазнить полное приключений бегство унтера Гриши из лагеря и судебные интриги, сплетающиеся вокруг дела о беглом военнопленном…

Большинство читателей знает Арнольда Цвейга прежде всего как автора цикла антиимпериалистических романов о первой мировой войне и не исключена возможность, что после этих романов новеллы выдающегося немецкого художника-реалиста иному читателю могут показаться несколько неожиданными, не связанными с основной линией его творчества.Лишь немногие из этих новелл повествуют о закалке сердец и прозрении умов в огненном аду сражений, о страшном и в то же время просветляющем опыте несправедливой империалистической войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть Юрия Германа, написанная им в период службы при Политическом управлении Северного флота и на Беломорской военной флотилии в качестве военкора ТАСС и Совинформбюро.
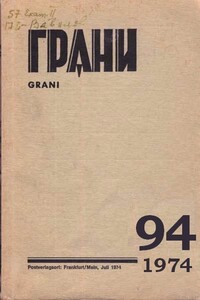
Повесть «Девочки и дамочки», — это пронзительнейшая вещь, обнаженная правда о войне.Повествование о рытье окопов в 1941 году под Москвой мобилизованными женщинами — второе прозаическое произведение писателя. Повесть была написана в октябре 1968 года, долго кочевала по разным советским журналам, в декабре 1971 года была даже набрана, но — сразу же, по неизвестным причинам, набор рассыпали.«Девочки и дамочки» впервые были напечатаны в журнале «Грани» (№ 94, 1974)

Это повесть о героизме советских врачей в годы Великой Отечественной войны.…1942 год. Война докатилась до Кавказа. Кисловодск оказался в руках гитлеровцев. Эшелоны с нашими ранеными бойцами не успели эвакуироваться. Но врачи не покинули больных. 73 дня шел бой, бой без выстрелов за спасение жизни раненых воинов. Врачам активно помогают местные жители. Эти события и положены в основу повести.
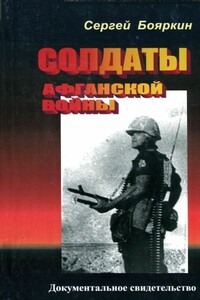
Документальное свидетельство участника ввода войск в Афганистан, воспоминания о жестоких нравах, царивших в солдатской среде воздушно-десантных войск.

Знаменитая повесть писателя, «Сержант на снегу» (Il sergente nella neve), включена в итальянскую школьную программу. Она посвящена судьбе итальянских солдат, потерпевших сокрушительное поражение в боях на территории СССР. Повесть была написана Стерном непосредственно в немецком плену, в который он попал в 1943 году. За «Сержанта на снегу» Стерн получил итальянскую литературную премию «Банкарелла», лауреатами которой в разное время были Эрнест Хемингуэй, Борис Пастернак и Умберто Эко.
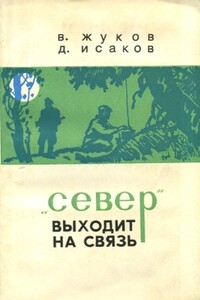
В документальной повести рассказывается об изобретателе Борисе Михалине и других создателях малогабаритной радиостанции «Север». В начале войны такая радиостанция существовала только в нашей стране. Она сыграла большую роль в передаче ценнейших разведывательных данных из-за линии фронта, верно служила партизанам для связи с Большой землей.В повести говорится также о подвиге рабочих, инженеров и техников Ленинграда, наладивших массовое производство «Севера» в тяжелейших условиях блокады; о работе советских разведчиков и партизан с этой радиостанцией; о послевоенной судьбе изобретателя и его товарищей.