Запоздалые путешествия - [5]
Как бы не так.
А наша-то встреча? Я теперь начинаю понимать, как сильно он изменился. Он говорит много лишнего и заведомо очевидного.
Например, он говорит о своей неприязни к возникшим там после нас явлениям, особенно к жутким неологизмам. Я эти неологизмы тоже ненавижу, они оскорбляют оба моих родных языка – и английский и русский. Как будто у тебя любимые кошка и собака, а какие-то подонки их скрестили и заставляют производить на свет монстров и химер. Это уже не лингвистика, а вивисекция, остров доктора Моро.
Но ведь чтоб прощать и даже любить жаргон, надо его знать еще с зарождения. Вот и противного подростка с прыщами любишь, если знал младенцем.
Я его все меньше узнаю. Зато себя узнаю, не теперешнюю, а прежнюю: я автоматически начала слушать, кивая и поддакивая, чего уже давно не делаю. Привычка, значит, где-то сидит.
Наши герои, битые по голове и всячески униженные в своем мужском достоинстве – как мы их жалели! Неправильно считается, что в русском языке нет приличного эвфемизма, обозначающего секс. Есть он. Это дело называется: жалеть. Его одна баба жалела. Она Ваську пожалела и забрюхатела. То-то и оно.
А в нашей интеллигентной среде жалость выражалась и в виде страсти, и в виде интеллектуального подобострастия.
Там, где я теперь живу, такое бывает только в черном гетто. Если группу населения унижают скопом и в историческом масштабе, то мужчины начинают много думать о чести и уважении, или, как теперь по-русски говорят, – о респекте. Получить это негде, кроме как от женского пола. У нас в Нью-Йорке аристократическое понятие чести существует только в городских бандах, у них же и забота о респекте. Им необходимы женская самоуниженность и самоотверженность. Черные женщины, ну, совершенно как мы когда-то, – работают, содержат семьи и мужчин своих жалеют непрестанно.
Жена его все говорит: «Я будет уходить, я будет уходить», но никуда она не уходит. Она, видимо, принадлежит к распространенной породе славистов, которым все мерещится, что от них скрывают тайну русской души, этакий философский камень из сказки Бажова. Они всегда сидят до победного конца, прислушиваются к пьяным разговорам, надеются уцепить эту Душу. Как будто им тут же за это и полную профессорскую ставку дадут.
Славистов я не люблю. Не переношу я их. Очень неприятно, когда тебя изучают заживо. Один славист целый вечер просидел в моем доме, а потом возьми и спроси: «Скажите, до какой степени вы типичны?». Задушить тебя мало, думала я тогда. А теперь думаю – очень даже была я типична со своими домашними пирогами.
С другой стороны, может, она будет уходить, будет уходить – а сама ревнует к соотечественнице? За такое человеческое чувство можно ее и простить. Но не нравится она мне. Косноязычие ее мне кажется безнравственным. Если уж чистоплотность считается богоугодной, то чистота речи – тем более. И притом она ему договорить не дает, все время перебивает.
А я слушаю проникновенно и истово. Как паства в черной церкви: Аллилуйя! Аллилуйя! Воистину!
Хотя ничего особо интересного он не говорит. Все, что он говорит, я знаю заранее, более того, я уже когда-то так думала, а потом перестала. Чужие мнения надо уважать, но очень трудно уважать свои собственные устаревшие мнения, свои собственные прежние глупости. Однако я дарю соотечественнику почтительное женское внимание, как сувенир прошлого. Вроде пачки «Памира».
Но, к сожалению, он начинает мне объяснять про мою теперешнюю страну, про ее ужасные недостатки. Это теперь в Европе модно. Это ему ночная кукушка накуковала.
Ну и пусть, пусть объясняет. Не могу ведь я ему рассказать за пять минут чем прекрасен остров, на котором я живу, не могу зараз преподать суровую науку: как любить Нью-Йорк (см. примечание).
Тут и славистка вступает:
– Это типично для русский эмигрант – национализм, где страна живешь. Почему защищать этот американцев?
– У меня ребенок американец, – отвечаю я бестактно.
И утрись. Я против тебя совершенно ничего не имею, бездетная утконосая славистка. Но не трогай мою где страна живешь. Не учи меня про эмигрантский национализм, а я с тобой не буду ни о чем, начинающемся на «наци»…
– До свидания, – говорю я.
Какое там «до свидания», больше мы не увидимся. И сказать нечего, и времени нет. Дни, как шелуха, как кочерыжки объеденные, как труха на дне старого ящика, к употреблению непригодные… Ни утра, ни вечера, сон наплывает с полудня…
Но в маленьком немецком городке уснуть невозможно. Говорили мы о какой-то ерунде. Но не молчать же. Молчание и все, приближающееся к нему, как сказано в одной старинной книге, напоминает об альковных тайнах. Об альковных тайнах нам вспоминать теперь ни к чему.
Он жил в узкой комнате, где одна только койка и помещалась, в коммунальной квартире на далекой окраине, и много там творилось всякого греха. Пили мы исключительно коньяк «Плиска», хотя один раз достался нам валютный «Наполеон», потом мы бутылку под свечку приспособили. Свеча горела на столе, такая романтика. Окно было всегда занавешено байковым одеялом, потому что на первом этаже. И холсты висели впритык по всем стенам, авангард и нонконформизм всяческий, довольно жуткие картины. А комната была не просто маленькая, как келья, она и вправду была бывшая келья. Когда-то там был монастырь. Подворье монастырское. Грачи летали. Колокольня, но никакого колокола, ни, тем более, креста.

Творчество Наталии Червинской посвящено теме перемещения личности из одной культуры в другую, автора интересуют скорее не бытовые, а психологические проблемы жизни эмигрантов. Это умная, ироничная, порой жесткая проза с мастерски выстроенным сюжетом и множеством точных деталей, поэтому не случайно первая книга Н. Червинской «Поправка Джексона» (2013) нашла отклик среди читателей и стала финалистом Русской премии. В настоящее издание вошли новые рассказы, а также эссе «Маргиналии: Записки читателя», в котором воспоминания неразрывно переплетены с литературной жизнью автора.

Первое, что отмечают рецензенты в прозе Наталии Червинской — ум: «природный ум», «острый ум», «умная, ироничная» и даже «чересчур умная». Впрочем, Людмила Улицкая, знающая толк в писательской кухне, добавляет ингредиентов: отличное образование (ВГИК), беспощадный взгляд художника, прирожденное остроумие, печальный скепсис и свободное владение словом. Стоит прочесть всем, кто помнит, какую роль сыграла поправка Джексона — Вэника в эмиграции из СССР. А кто не в курсе — им тем более. Поправку наконец отменили, а жизнь не отменишь и не переиграешь — она прожита вот так, как ее написала-нарисовала «чересчур умная» Червинская.

Вы верите в судьбу? Говорят, что судьба — это череда случайностей. Его зовут Женя. Он мечтает стать писателем, но понятия не имеет, о чем может быть его роман. Ее зовут Майя, и она все еще не понимает, чего хочет от жизни, но именно ей суждено стать героиней Жениной книги. Кто она такая? Это главная загадка, которую придется разгадать юному писателю. Невозможная девушка? Вольная птица? Простая сумасшедшая?

Действие романа «Дети Розы» известной английской писательницы, поэтессы, переводчицы русской поэзии Элейн Файнстайн происходит в 1970 году. Но героям романа, Алексу Мендесу и его бывшей жене Ляльке, бежавшим из Польши, не дает покоя память о Холокосте. Алекс хочет понять природу зла и читает Маймонида. Лялька запрещает себе вспоминать о Холокосте. Меж тем в жизнь Алекса вторгаются английские аристократы: Ли Уолш и ее любовник Джо Лейси. Для них, детей молодежной революции 1968, Холокост ничего не значит, их волнует лишь положение стран третьего мира и борьба с буржуазией.
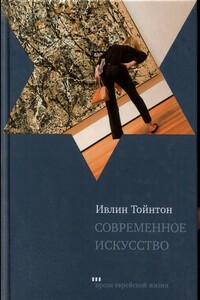
Прототипы героев романа американской писательницы Ивлин Тойнтон Клея Мэддена и Беллы Прокофф легко просматриваются — это знаменитый абстракционист Джексон Поллок и его жена, художница Ли Краснер. К началу романа Клей Мэдден уже давно погиб, тем не менее действие вращается вокруг него. За него при жизни, а после смерти за его репутацию и наследие борется Белла Прокофф, дочь нищего еврейского иммигранта из Одессы. Борьба верной своим романтическим идеалам Беллы Прокофф против изображенной с сатирическим блеском художественной тусовки — хищных галерейщиков, отчаявшихся пробиться и оттого готовых на все художников, мало что понимающих в искусстве нравных меценатов и т. д., — написана Ивлин Тойнтон так, что она не только увлекает, но и волнует.

«Когда быт хаты-хаоса успокоился и наладился, Лёнька начал подгонять мечту. Многие вопросы потребовали разрешения: строим классический фанерный биплан или виману? Выпрашиваем на аэродроме старые движки от Як-55 или продолжаем опыты с маховиками? Строим взлётную полосу или думаем о вертикальном взлёте? Мечта увязла в конкретике…» На обложке: иллюстрация автора.

В этом немного грустном, но искрящемся юмором романе затрагиваются серьезные и глубокие темы: одиночество вдвоем, желание изменить скучную «нормальную» жизнь. Главная героиня романа — этакая финская Бриджит Джонс — молодая женщина с неустроенной личной жизнью, мечтающая об истинной близости с любимым мужчиной.
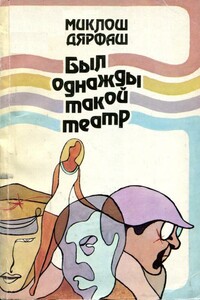
Популярный современный венгерский драматург — автор пьесы «Проснись и пой», сценария к известному фильму «История моей глупости» — предстает перед советскими читателями как прозаик. В книге три повести, объединенные темой театра: «Роль» — о судьбе актера в обстановке хортистского режима в Венгрии; «История моей глупости» — непритязательный на первый взгляд, но глубокий по своей сути рассказ актрисы о ее театральной карьере и семейной жизни (одноименный фильм с талантливой венгерской актрисой Евой Рутткаи в главной роли шел на советских экранах) и, наконец, «Был однажды такой театр» — автобиографическое повествование об актере, по недоразумению попавшем в лагерь для военнопленных в дни взятия Советской Армией Будапешта и организовавшем там антивоенный театр.