Записки викторианского джентльмена - [50]
Особенно запомнилась мне одна заметка, которая мучила меня много месяцев, настолько серьезно я к ней относился. Речь в ней шла о казни через повешение, я даже посетил одну такую экзекуцию, чтобы составить собственное мнение о степени ее варварства и соответственно настроить читателей. То, что я испытал, было чудовищно, но, как и полагалось, я честно доложил обо всех подробностях этой страшной процедуры и о собственных ощущениях, - надеюсь, я открыл глаза некоторым людям. Или еще одна заметка, на сей раз об эмигрантах, - я плакал целую неделю после того, как посетил причалы, откуда они отправлялись в путь, и думаю, что честно рассказал моим читателям нечто такое, чего они прежде не знали и что им надлежало знать - за знанием, возможно, последуют и действия. Нет, я не жду, что они бросятся снимать веревку с человека, стоящего у виселицы, или поселят У себя бездомную семью, вынужденную эмигрировать, - ничего похожего, - но под влиянием возникших чувств каждый человек может влиять на общественное мнение, и это со временем изменит общество.
Боюсь, что мое чересчур страстное выступление в защиту журналистики заставило вас заподозрить, что одной журналистики было мне мало, признаюсь, я не готов был ею ограничиться и согласиться на замену, пусть самую соблазнительную, которую подсовывала мне судьба, ибо хотел быть романистом. Только роман, переплетенный в кожу, хранящийся на книжной полке, - ничто иное не могло мне дать удовлетворения, все остальное казалось однодневкой, которая завтра проследует в корзину для бумаг. О, суета сует! И вот передо мной романы, целая шеренга романов, а я все так же недоволен, правда, порой, когда мой взгляд задерживается на одной - много двух - из этих книг, я чувствую, что в дальнем уголке души шевелится какое-то тщеславное, гордое чувство. Ну что ж, спасибо и на том, могло быть хуже, я мог бы не оставить после себя совсем ничего стоящего и наше время запомнилось бы как время безраздельного господства Диккенса. Помню, летом 1842 в Ливерпуле, где я ждал судна, чтобы отправиться писать свои "Ирландские очерки", я развернул газету в гостинице и подумал, что в ней могло бы найтись место - два-три абзаца - для сообщения о том, что довольно известный лондонский журналист имярек находится на пути в Ирландию, а вместо этого обнаружил, что весь номер посвящен возвращению Диккенса из Америки. Я рассмеялся над собой, но в этом смехе было что-то жалобное; я часто думал о Диккенсе, не стану притворяться, будто его судьба меня не занимала. Одно время мысли о нем буквально меня преследовали, да и кто из писателей мог похвастать тем, что равнодушен к Диккенсу? Он был в зените славы: двадцати пяти лет от роду написал "Пиквика", до тридцати выпустил еще четыре нашумевшие книги, он признанный гений своего времени, как же о нем не думать? Я и сейчас о нем думаю и завидую ему, вернее, не ему, а его поразительному мастерству, которому, надеюсь, воздал должное и в узком кругу, и перед широкой публикой. Да мне бы ничего другого не оставалось, даже если бы я не считал его гением, каковым он, несомненно, является, меня бы заставили признать это мои собственные дети. Они обожали Диккенса: Минни читала "Николаса Никльби", когда ей было весело, и того же "Николаса Никльби", когда ей было грустно, "Николас Никльби" шел в ход утром, днем и вечером, пока, наконец, она не спросила меня, подняв глаза от книги: "Папочка, а ты почему не напишешь что-нибудь вроде "Николаса Никльби"?" Дитя, я бы не смог, даже если бы и хотел, но правду сказать, - до сих пор я не решался это выговорить из опасения, что вы меня неправильно поймете, - я не хочу и никогда не хотел писать, как он. Вы поражены? "Зелен виноград", думаете вы? Жаль, очень жаль, потому что я говорю правду: я восхищаюсь Диккенсом, почтительно снимаю перед ним шляпу, но даже в те далекие годы, когда мне было тридцать шесть и я не написал еще ни одного романа, а он был знаменитым автором восьми сенсационных книг, я не хотел быть на его месте. Вы спрашиваете, по какой причине. Скажу вам так: Диккенс прекрасен, прекраснее, чем жизнь, но я не желаю быть лучше жизни, я хочу быть самой жизнью. С моей точки зрения, художник - зеркало действительности, и от себя он добавляет ровно столько, сколько нужно, чтоб сделать ее более отчетливой. Он не вправе искажать и подтасовывать ее ни для того, чтобы повеселить нас, ни для того, чтоб вызвать наши слезы, иначе мы потеряем к нему доверие, книга станет для нас пустой, незначащей забавой и самые замечательные цели потеряют смысл. Возьмем, к примеру, Микобера из прекрасной книги "Дэвид Копперфилд". Мы смеемся над Микобером, мы показываем на него пальцем, мы покатываемся со смеху, но понимаем в конце концов, что этот образ превзошел самое жизнь - он не укладывается в ее рамки - и что его создатель презрительно относится ко всем Микоберам на свете и обращает их в посмешище. Насколько было бы лучше, если бы, пожертвовав частью смешных сцен и драматических эффектов, автор сделал Микобера более жизненной, более узнаваемой фигурой, от знакомства с которой не оставалось бы такого неприятного осадка. Вы не согласны, вы любите Микобера и говорите, что "Дэвид Копперфилд" много лучше всего, что довелось написать вашему покорному слуге? Не стану спорить, но сна из-за вас не потеряю - вы ровным счетом ничего не поняли. Впрочем, неважно, я все равно скажу то, что собирался. Произведения Диккенса прекрасны, его герои трогают до слез, но в то же время они утрированы и умаляют силу его романов. На мой взгляд, призвание писателя - изображать натуру, его искусство - в умении правдиво воссоздать ее.
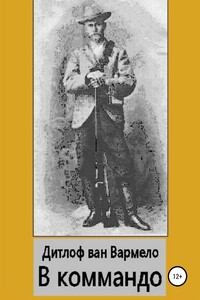
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
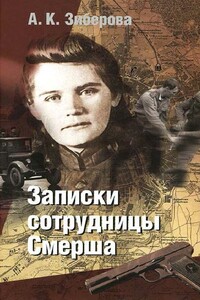
Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.
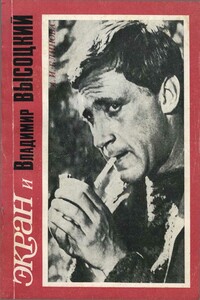
В работе А. И. Блиновой рассматривается история творческой биографии В. С. Высоцкого на экране, ее особенности. На основе подробного анализа экранных ролей Владимира Высоцкого автор исследует поступательный процесс его актерского становления — от первых, эпизодических до главных, масштабных, мощных образов. В книге использованы отрывки из писем Владимира Высоцкого, рассказы его друзей, коллег.