Записки свободного человека, или Как я провел детство - [3]
Чтение – путь к знаниям
Мальчик – извращенец с табуретки прочел Деду Морозу всего Пастернака.
В СССР читали все. Под словом «все» я имею в виду подавляющее большинство, которое позволяет говорить о массовости чтения с точки зрения даже современного ВЦИОМа. Единственное, что мешает говорить о сознательной приверженности советского народа чтению, как досугу, это, пожалуй, отсутствие альтернативы. Действительно, для чистоты эксперимента, следовало бы положить рядом с книгой игровую приставку в комплекте с десятком игр, ключи от байка «Кавасаки Ниндзя» и туристическую поездку в Турцию по системе «все включено». Тот сказочный персонаж, который выберет книгу и будет искренним приверженцем чтения. Но это современные реалии. В детстве вашего покорного слуги книги были вполне себе конкурентоспособным досугом. Еще и предоставляли редкую возможность совместить приятное с полезным: список литературы, которая была обязательна к прочтению за летние каникулы, больше напоминал перечень источников, использованных при написании докторской диссертации. И ничего, справлялись. Чередовали Достоевского с Буссенаром, Гоголя с Гегелем, Джека Лондона с Шолоховым.
Самое же главное, это то, что чтение весьма способствовало развитию фантазии. Действительно, если сейчас ты видишь на экране сверхтонкой плазмы бегущую Меган Фокс в полупрозрачной маечке и настигающего ее трансформера, преобразующегося прямо в полете, то что тут можно фантазировать или домысливать? Все налицо, так сказать. А что мы видели на экранах телевизоров «Рубин»? Тамару Окулову в роли леди Гленарван или леди Ровены, одетую в платье до пола. Причем, посмотреть фильм чаще всего удавалось после прочтения книги. Как же тут не наделять героев романов какими-то особо привлекательными чертами? Вот и тренировали… воображение. Поневоле вспомнишь сукина сына Пушкина с его женскими лодыжками. Видимо, по причине и так слишком развитой фантазии молодого поколения, книги условно-эротических классиков (Мопассан, Стендаль) не были особо распространены и рекомендованы к прочтению. Да что там говорить, даже за сданную макулатуру их не выдавали. «Винни-Пуха» давали, а «Пармскую обитель» – нет.
И все равно, я рад тому, что у нас была леди Ровена, а не Баффи – истребительница вампиров. На самом деле, весь багаж знаний по истории, литературе и прочим условно-обязательным для образованного человека наукам, я получил только благодаря отсутствию игровых приставок и кинотеатров. Если тебе не показывают «300 спартанцев» по телевизору, ты воленс-не-воленс прочтешь Плутарха. Просто чтобы знать, кто такие спартанцы. Да и девочки тогда предъявляли довольно много требований, связанных с умением говорить. Причем, говорить о прочитанном, да еще и интересно. И соревнования в школах проводились. Играли в «Что? Где? Когда?», «Брэйн ринг», «Поле чудес», устраивали чтение стихов (кто больше помнит наизусть). Даже пытались сами писать. Стихи, дневники, письма – все это было распространено среди совершенно среднестатистических школьников. Более того, стремление одних к чтению, а других к физической культуре и спорту, позволяло выдерживать баланс интересов. Ботаников достаточно редко били, просто по причине того, что Интернет отсутствовал, а сдавать сочинения и рефераты было необходимо всем. Поскольку школьная программа была достаточно терпимой к способностям среднего ученика, то отличник чаще всего успевал сделать работу и за себя, и за «того парня». Эта система позволяла двоечнику оставаться троечником, а отличнику оставаться с естественно-неповрежденным лицом.
Лично у меня по причине достаточно внушительных физических данных, дополнительно развитых благодаря занятиям борьбой, проблем с обменом телесной неприкосновенности на сочинения не было. Менялся на другое. Чтобы не ронять себя в глазах одноклассников принадлежностью к миру ботаников, я не мог позволить себе сидеть на первых партах. Первая парта – это как шконка рядом с парашей. Вроде бы тоже место, но какое-то совсем не престижное. Элите класса полагалось сидеть не ближе четвертой парты.
Поэтому-то мой сосед по классной скамье, обладавший стопроцентным зрением, которого я по официальной версии подтягивал в науках, а де-факто решал за него задания, в обмен на знания читал мне то, что написано на доске. Сам я по причине близорукости это делать был не в состоянии, а сидеть ближе четвертой парты, по указанным выше причинам, позволить себе не мог. Вот и был у нас своего рода симбиоз – программа «зрение в обмен на знания».
О спорт, ты – мир
Самурай без меча во всем подобен самураю с мечом, но только без меча.
Для того, чтобы не запутаться в терминах, хотелось бы сначала пояснить, что понималось под словом «спорт» в СССР и «ранней» России. Так вот, как это ни удивительно для джентльменов дня сегодняшнего, спорт – это не просмотр матча в футбольном баре и даже не покер. Да что там покер, даже не прокачка перса до 80-го уровня. Спорт в доисторическом понимании этого слова – это соревнования, пот, слезы и травмы. Ну и бонусом, если повезет и у вас хватит терпения – рельефные бицепсы и кубики пресса. Учитывая собственную биографию, рассматривать спортивные вопросы я буду большей частью через призму боевых искусств, благо они очень показательны в плане высоких требований, предъявляемых к своим адептам.

Каждого адвоката интересует исход дела, которое он ведет в конкретный момент времени. В начале карьеры мы склонны думать, что результат процесса зависит от нормы права, затем приходит надежда, что еще и от нашей профессиональной квалификации и опыта. Лишь с течением времени закаленный в судебных сражениях адвокат осознает, что решающее значение для исхода дела имеет знание механизмов принятия судебных решений. И если закон один для всех, то способов повлиять на конечный результат несколько, даже в рамках отдельного процесса, если адвокат опытный.
![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.
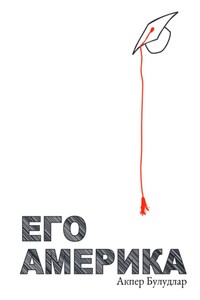
Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Тревожные тексты автора, собранные воедино, которые есть, но которые постоянно уходили на седьмой план.
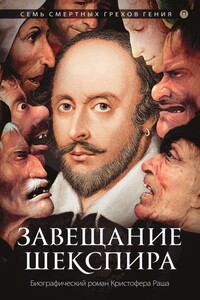
Роман современного шотландского писателя Кристофера Раша (2007) представляет собой автобиографическое повествование и одновременно завещание всемирно известного драматурга Уильяма Шекспира. На русском языке публикуется впервые.
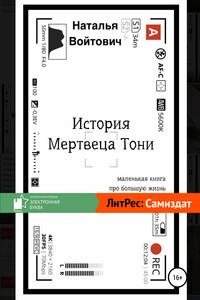
Судьба – удивительная вещь. Она тянет невидимую нить с первого дня нашей жизни, и ты никогда не знаешь, как, где, когда и при каких обстоятельствах она переплетается с другими. Саша живет в детском доме и мечтает о полноценной семье. Миша – маленький сын преуспевающего коммерсанта, и его, по сути, воспитывает нянька, а родителей он видит от случая к случаю. Костя – самый обыкновенный мальчишка, которого ребяческое безрассудство и бесстрашие довели до инвалидности. Каждый из этих ребят – это одна из множества нитей судьбы, которые рано или поздно сплетутся в тугой клубок и больше никогда не смогут распутаться. «История Мертвеца Тони» – это книга о детских мечтах и страхах, об одиночестве и дружбе, о любви и ненависти.