Записки простодушного - [5]
Но для меня-то всю жизнь главной достопримечательностью города был наш Воткинский пруд, созданный на слиянии нескольких рек и речек тогда же, в XVIII веке, для нужд завода. Пруд — чистый, глубокий, громадный (километров 15–20 в длину), окаймленный великолепными сосновыми лесами. Стоишь на мысу, на обрыве, крепко держась за сосну, подмытую половодьем. Под тобой песок и камни, кой-где карабкается по крутизне иван-чай, в воде внизу камыши и кувшинки, и далеко-далеко — голубая гладь воды. А еще дальше влево — город, красивый издали, а вправо — другой мыс и синие леса за ним. Каждый раз, как я приезжаю с семьей на мою родину, мы непременно приходим на этот мыс (Шарканский он называется) и любуемся, и молим Бога, чтобы не была погублена эта красота. А опасность — есть, уже и нефтяники местные нефть в пруд выливали…
Стоит, пожалуй, коснуться и «национального вопроса». Воткинск — город русский, но расположен на стыке границ и народов: на севере (чуть ли не в десяти километрах) — удмуртские села, на юго-западе (в тех же десяти километрах) — Татария, на юго-востоке, сразу за городом, — русские села, Пермская губерния. Конфликтов на национальной почве не было, жили мирно. Татар (как и удмуртов) ощущали как чужих, но уважали — за трудолюбие, аккуратность, а главное — за добросовестность. Даже у нас, близких к земле русских жителей Прикамья, татары славились как отличные косцы. Помню, в сенокос на камских пароходах ехало на заработки множество татар с литовками (косами) в холщовых чехлах и с женами-татарками в шароварах. Моя мама в косьбе не уступала мужику, но и она, помню, говорила мне: «Нет, Вовка, против татарина я не выдюжу! Да он за день в два раза больше выкосит!»
В самом Воткинске татар было немного, однако была (и сейчас есть) деревянная мечеть, а до войны за городом в конце июня на большом поле, на молодой весенней травке устраивался татарский праздник — сабантуй. И он становился шумным многолюдным общегородским праздником. Тон, конечно, задавали татары: татарские блюда, татарские игры, состязания. Но русские были горячими болельщиками, а иногда и заимствовали что-то из этих молодецких татарских игр. Помню, маме почему-то особенно понравилась татарская борьба, и после, в разгар наших воткинских гулянок, она иногда подзуживала мужиков: «Ну, мужики, кто смелый? Давайте татарскую борьбу!» Борцы ложились на спину, валетом, зацепляли друг друга ногой за ногу и по команде старались перевернуть соперника. Мама, маленькая, но очень крепкая, обычно выходила победителем из борьбы со здоровенными мужиками. Главную роль играла здесь, понятное дело, ловкость и хитрость: мужичина еще не успел включить на полную мощность свои рычаги, ан уже перевернут и скребет ножищами по полу под смех родичей.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Трудно пришлось моим родичам на новом месте, в непривычной городской обстановке.
Приехав как-то к деду в деревню Пески, я с изумлением узнал, что здание конторы (оно же деревенский клуб) — самый большой в деревне, высокий и светлый деревянный дом — до коллективизации принадлежал моему дяде Афоне и его родителям! Легко ли было бросать такой дом, хозяйство, родные места и поселяться в Воткинске в хибарке вместе с двумя такими же семьями-бедолагами? Но они, мои родственники, были рады, что хоть живы остались.
Сбережений «клана» хватило только на один деревянный дом. Тут, в сущности в одной комнате, поселились три молодые семьи — по семье на кровать. Жили дружно. Дядя Ваня, пожарник, уходя на работу, говорят, непременно брал меня на руки и, обогнув дом, подавал меня маме или папе в окно.
Даже сама теснота служила предметом шуток. Основным объектом была моя мама, которая была не без лунатических наклонностей — «торусила», «бормила» (говорила) во сне, а то и бродила по дому. Рассказывали, как ночью она в бессознательном состоянии сняла с окон и дверей все шторы — в стирку (крепок же был сон моих родичей, если они обнаружили это только утром!). А то ночью, услышав мой плач, мама совала соску в рот папе (на каждую семью, повторяю, была одна кровать): «На-ко, пососи, дитятко!», и тот сердито отплевывался: «Чо ты опять бормишь?!»
И отец, и многие родственники устроились на работу возчиками (конновозчиками, как тогда говорили). Ни легковых, ни грузовых машин в Воткинске тогда почти не было, а им, недавним крестьянам, работа на лошадях была привычна.
Видимо, не так уж плохо зарабатывали в те годы: через несколько лет все мои родственники расселились из «общежития», купив деревянные домишки. И это при том, что ни мама, ни тетки мои на производстве не работали («домохозяйки»). Конечно, кроме домашнего хозяйства, воспитания детей, заботы об огородах и т. п., каждая из них занималась каким-то «рукомеслом» на продажу: мама шила, тетя Клаша помогала мужу валять валенки, тетя Толя (Евстолия) купила старый деревянный ткацкий станок и ткала половики, которые шли нарасхват на местном базаре.
Как-то совсем особняком стоял дядя Саша — младший брат мамы, мой любимый дядя. Впрочем, любимым дядей он стал после войны. Из моих довоенных связей с ним в памяти (и не моей даже, а в памяти моих теток) сохранился лишь один эпизод. Собирается дядя Саша на какой-то школьный (рабфаковский) вечер, прихорашивается, мама снимает с его костюма какую-то пылинку, и тут я, сидящий на ее руках, оскверняю этот его единственный, тщательно отутюженный костюм! Огорченный дядя Саша поворачивается к свету, чтобы оценить масштабы катастрофы, и тут я оскверняю и второй бок пиджака.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
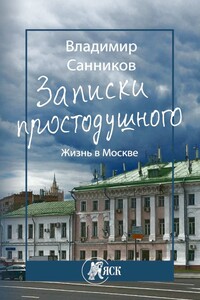
Данная книга — воспоминания автора о жизни в Москве с 1955 г. Живо и с юмором описывается научная и общественная жизнь Институтов Академии наук в «период оттепели», их «золотой век», сменившийся периодом «смуты» в 60–70-х, изгнание из Академии по политическим мотивам автора, его товарищей и коллег. Описывается путь автора в науке, приводятся материалы из его книг, посвящённых языковой шутке, и наблюдения над способами создания каламбура и других видов комического. Записки по содержанию — очень пёстрые.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.В России издается впервые.
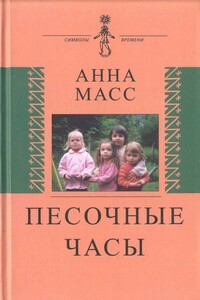
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.Написана легким, изящным слогом.
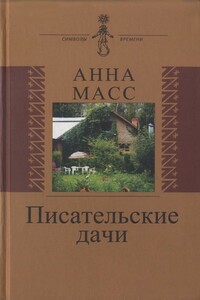
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.Ее новое произведение — о поселке писателей «Красная Пахра», в котором Анна Масс живет со времени его основания, о его обитателях, среди которых много известных людей (писателей, поэтов, художников, артистов).Анна Масс также долгое время работала в геофизических экспедициях в Калмыкии, Забайкалье, Башкирии, Якутии. На страницах книги часто появляются яркие зарисовки жизни геологов.
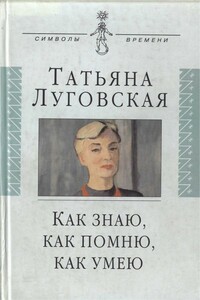
Книга знакомит с жизнью Т. А. Луговской (1909–1994), художницы и писательницы, сестры поэта В. Луговского. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими. Она оставила повесть о детстве «Я помню», высоко оцененную В. Кавериным, яркие устные рассказы, записанные ее племянницей, письма драматургу Л. Малюгину, в которых присутствует атмосфера времени, эвакуация в Ташкент, воспоминания о В. Татлине, А. Ахматовой и других замечательных людях.