Зал ожидания - [2]
И уже на строительстве КамАЗа я мечтал о том, что когда-то наступят для меня золотые времена и я уеду. Я уеду навсегда и сам построю или выкопаю себе логово, и буду трудиться всласть от зари до зари и ждать гостей, и обязательно их провожать, чтобы все-таки оставаться одному...
— Дорогая!
— Слушаю, миленький!
— Сделай мне чайку, а то муторно что-то...
— Вот, готов уже. Пей, лапушка, пей досыта...
— Присядь рядышком. Послушай-ка.
2
Тетка ездила в Москву пробивать пенсию. У нее муж пропал без вести на Курской дуге, а они не удосужились расписаться перед войной.
— Как мы с тобой, миленький?
— Тогда вообще мало кто придавал значение расписываниям...
— А ты не пропадешь без вести?
— Ну тебя... Так вот: куда она ходила, не помню, не знаю. Я был еще мал. А меня она взяла, чтобы снова отдать дядьке с теткой — те остались бездетные и очень хотели, чтобы я жил с ними, в Москве. Они и матери говорили, что она напрасно меня увезла после смерти бабушки. Но и в этот раз что-то не сладилось. Тетка, ее сын и я оказались неподалеку от Красной площади, и мнё очень захотелось в туалет, пописать. Глядя на меня, пописать захотелось и Кольке. Мы отыскали платный туалет. У тетки была лишь пятерка. А платить надо было меньше. (Не помню сколько, ну, допустим, рубль.) Старуха-туалетчица нас не пускала — у нее не оказалось сдачи. Я уже скулил, не в силах терпеть напора. Старуха не пускала. Стояли такие сумеречные времена, что за отсутствие сдачи можно было шибко пострадать. Тетка наша только что вышла из тюрьмы, где отсидела три года за три трамвайных билета. (Она, будучи кондуктором, тогда деньги взяла, а с билетами замешкалась — в это время ее сцапали.) Она стояла возле старухи и умоляла: "Пусти мальчонок-то посать — лопнут ведь!" Но старуха не пускала. Она тоже чувствовала затылком тень тюремной решетки. В конце концов, тетка совсем приперла ее: "Держи пятерку. Они тебе на всю пятерку насерут и нассут!" Встав на стражу у входа, старуха разрешила нам помочиться, причем беспокойно, в ужасе, озираясь. Ибо бесплатное потребление народных благ могло лихо покараться тем законом. Вот так — в полуподвальном туалете выразилось веяние целой эпохи.
— Тебе, дорогой, не холодно? Накинуть плед, нет?
— Накинь. Себе на голову.
И хотя она сидит рядом, в ногах, и преданно смотрит на меня, я — один. Страшно одиночество при свидетелях.
Я бездомный. Стоит мне не поладить с нею, и я выйду на троллейбусную остановку, и буду стоять, пропуская один за другим троллейбусы, гадая — куда же поехать? Куда? И есть, вроде б, куда — да за это надо платить. Платить — и раскаиваться, и презирать себя, и ощущать гадливость и мерзостность поутру... Нет, туда я не поеду. И туда — тоже...
3
Отца посадили, когда мне исполнился год. Я в это время жил в Москве, у бабушки. Потом мама меня перевезла, когда отца посадили, а за ним следом посадили и сестру матери, Гутю, за трамвайные билеты. Она оставила сына, Кольку, и мама, тридцати двух лет от роду, осталась с нами четырьмя, безработная, безденежная, без...
Вернулся он поздней осенью — как сейчас перед глазами. Мы и не ждали его. Вернее, ждали, ждали постоянно, но через еще шесть с лишним лет. Семь с половиной было позади. Мама, правда, что-то предчувствовала, и поэтому, наверное, поставила бражку. Но мужики с фабрики привезли дрова на зиму, тару. Расплачиваться было нечем, и мама брагу эту споила им.
В стране что-то творилось. Умер Сталин. Разоблачили Берию. То и дело раскрывали антипартийные группировки с примкнувшим всюду Шепиловым — об этом постоянно сообщало радио тревожно-бдительным голосом Левитана. Двадцатого съезда еще не было, но из тюрем и лагерей потянулись те, кто выжил, те, кто уцелел. Хрущева еще не склоняли в очередях, называя освободителем народа. Но все это доносилось откуда-то извне. Мы жили не лучше, чем прежде. В магазинах и в карманах больше не стало. Скрипа хромовых сапог все еще пугались.
Споила она им брагу. Мужики окривели. В результате, на обратной дороге они ехали стоя в пустом кузове, и один грузчик свалился через борт и рукой угодил под заднее колесо. Мать вызывали в суд, пытались обвинить ее в том, что она намеренно напоила грузчика, чтобы нанести урон государству... В последнее время ходила она, словно в воду опущенная. Ей уже доставалоеь от внутренних органов. Однажды она написала Сталину письмо (это когда она собиралась повеситься, да решила вначале попробовать написать), ее вызвали куда следует и пригрозили, что отправят следом за мужем. Соседи теперь переживали за нее, особенно, рядышные. "Авось, обойдется!" В этот вечер она пошла к ним рассказывать, как движется дело с грузчиком,— ее хотели заставить оплатить тому больничный лист, а нас у матери, уж сообщал, росло четверо сорванцов. А заработок ее составлял семьсот рублей старыми в месяц. Да надо еще на эти гроши дров купить, заплатить за землю ренту триста в год, купить керосину для лампы и керогаза. Об одежде я не заикаюсь — все уже в школу ходили, хотя и в заплатах. Но ведь и заплатки снашиваются.
Старшие братья вначале жгли ботву на огороде, покуривали махорку, которой у нас было навалом — отдал сосед, когда пропил свой дом, продав его за бесценок заезжим чувашам. Покурив, они утащились на Ямки — на старое, заброшенное кладбище. Там намечалась коллективная драка персон на двести. Меня не взяли, потому что я пока еще не мог считаться боевой единицей — об этом они мне намекнули пинком под зад. Я висел на заборе и пытался приладить к воротам красный флаг. Наступали октябрьские праздники. У некоторых уже висели флаги. У нас же не было. Разодрав единственную красную футболку и пришив ее к черенку лопаты медной проволокой, я укреплял флаг повыше. Вернулись братья со свежими ссадинами и фонарями и принялись рыскать по дому в поисках съестного. Хлеба ни корки. Варева — не из чего — ни капли. Зато полно зеленых помидор и картошки. Мерцала в окне керосиновая лампа, колыхались в темноте силуэты братьев. Окна были без занавесок. А ведь имелась когда-то даже нитяная скатерть. Но ее спер сосед-алкаш. В оплату-то своего греха он и отдал нам копну махорки, которой собирался торговать зимой и разом разбогатеть. До возвращения отца из воркутинских лагерей нам должно было ее хватить.
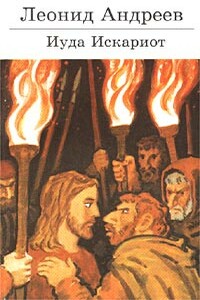
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.