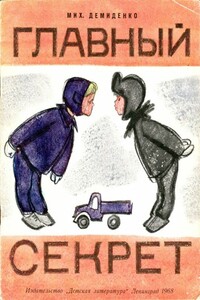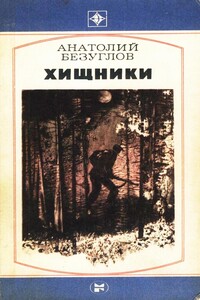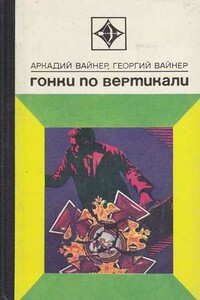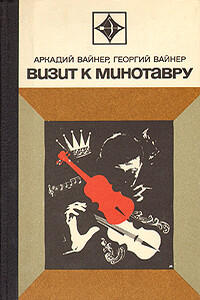Вела она себя во время кутерьмы, в которую угодила лишь благодаря мне, блестяще. Откуда у нее столько храбрости? Или она действовала безрассудно лишь потому, что защищала свое счастье — жениха? И этот жених — я! Не уверен, что принесу ей счастье, о котором она мечтает.
А вообще о чем она мечтает?
Она показывала Бобу подвенечное платье! Неужели всерьез приняла мой треп? Сколько времени знает меня, должна была бы привыкнуть. А может, у нее на происходящее своя точка зрения? Женщины ведь воспринимают мир несколько отлично от мужчин, не рассудком, а сердцем.
Клер отрешенно наблюдала за моими поспешными сборами, благо собирать было почти нечего.
— Машинку оставлю у тебя, — сказал я, укладывая в футляр из-под «портативки», тетради, вынутые из тайника в прихожей.
— Угу! — отозвалась невнятно Клер, вертя в руках мою «достопримечательную» зажигалку. Она курила, привалившись спиной к стене.
— Вот и все! — сказал я, беря в руки портфель-чемодан, где лежали пара сорочек, пижама, тапочки, бритва и несколько блокнотов с десятком авторучек, шариковых ручек и карандашей.
Я чувствовал, что должен сказать что-то теплое, что-то нежное, чтобы снять напряженность и отчуждение Клер.
На момент вдруг захотелось послать все к чертям собачьим, утопить ее лицо в поцелуях, взять на руки и отнести в «свою комнату». Хватит куролесить по белу свету, пора швартоваться в тихой гавани, изведать счастье семейной идиллии, в конце концов, должен же и я стать когда-нибудь отцом, возить на шее крошек, утирать их кнопки-носы, целовать по утрам широко открывающиеся на мир любопытные глазенки. Чего бежать неизвестно куда, а в итоге по замкнутому кругу? Что я приобрел? Ничего! И возможно, именно сейчас теряю последнее.
— Сядем, дорогая, — сказал я. — У русских есть обычай посидеть молча перед дорогой.
Через минуту я поднялся — слабодушие прошло. В путь! Остановка — это застой, смерть. Ведь должен кто-то довести дело до конца, дать возможность заговорить тетрадям — мы все в ответе за то, что происходит кругом. Капли сливаются в ручейки, ручейки в могучие реки, реки рвутся в океаны, где бурлят огромные волны и разбрасывают как щепки военные корабли. У каждого свой долг! Я раб пера, преданный слуга информации.
— Я тебе посоветую, — сказал я, виновато улыбаясь, — смени служанку.
— Зачем?
— Какая-то она странная.
— Не нахожу. Она очень честная, приятная.
— А где она, ты ее отпустила?
— Ушла. А куда, не знаю. Я не шпионю за прислугой. Если не доверяешь прислуге, то зачем ее держать?
— Да… Я пошел?
— Иди!
— Клер… Я напишу. А сейчас мне надо уехать. Сама видишь. Извини за происшедшее.
— И это все?
— А что еще?
— Ты меня не поцелуешь?
— Я просто не решался.
Я обнял ее, она прильнула. От поцелуя у меня закружилась голова. И опять возникла мысль: «Брось все! Оставайся! Здесь твое счастье».
— Я приеду к тебе, где бы ты ни был, дорогой! — сказала она.
— Хорошо! Созвонимся. Буду звонить не я, а, скажем, тетя Мэри.
— Я люблю тебя!
— Клер… Не надо сейчас. Нельзя так шутить:
— Я не шучу!
Она оттолкнула меня. Глаза у нее были злыми.
— Ты все взял?
— Кажется, все… Отснятые кассеты Боба я тоже прихватил. Скажи ему, что ухожу через надежное «окно». Пусть он ходит по земле без опаски. Он и так слишком рисковал… Его даже ранили.
— А это?
Она держала у пояса зажигалку, так похожую на браунинг.
— Ни к чему она. Сожалею, что не стреляет. Сегодня бы я изменил правилу.
Клер ничего не ответила. Из дула зажигалки вдруг выпрыгнуло пламя, раздался звук выстрела и маленькая фарфоровая статуэтка японского геркулеса-асахима разлетелась вдребезги.
— Ты отлично стреляешь! — вырвалось у меня.
— Отлично!
— А где же зажигалка?
— Нет… Ее украл кто-то из полицейских.
— Так ты вошла с ним? — Я показал на браунинг. — И могла бы выстрелить?
— Возьми, — она улыбнулась грустно, — пригодится.
— Спасибо за подарок! Очень кстати.
И я попытался ее вновь поцеловать.
— Не надо! — отстранилась она. — Запомни, если понадобится, я приеду, где бы ты ни был.
2
На рассвете я пришел к отцу Тихону, не мог же я слоняться по притихшим улицам Макао, ждать, когда потухнут звезды, рассчитывая при этом скрыться незамеченным. Я долго колебался, прежде чем войти во двор. Окно одной из комнат коттеджа светилось, и это придало мне решимости. Я даже подумал, что хозяин дома ожидает меня, но оказалось, что у матушки Евдокии был острый приступ полиартрита. Терпению ее мог позавидовать любой мужчина — она приветливо улыбалась, разве только улыбка была какой-то вымученной. Не помогали ни грелки, ни массаж, от малейшего прикосновения возникала острая боль. Отец Тихон лечил ее пчелами. Брал осторожно медоносицу за крылья, подносил к оголенным лодыжкам, рассерженное насекомое жалило. И пчелиный яд, как ни странно, снимал боль. До двадцати укусов и более за сеанс.
Когда я пришел, мертвые насекомые лежали грудкой в красивой редкой раковине, достойной украшать любую коллекцию панцирей моллюсков. Отец Тихон читал жене невероятно потрепанную книжку на русском языке, больше половины текста переводя на «пиджин-руссиш», не менее запутанную тарабарщину, чем «пиджин-инглиш». Удивительно было не го, что он говорил «моя твоя не ходи», а то, что жена отлично его понимала, возможно, оттого, что «язык» мужа состоял в основном из ужимок, вздохов, закатывания глаз и звукоподражаний. В этом Тихон был великий мастер.