За миг до падения - [10]
Собираюсь на Чатыр-Даг, к Игнату и профессору. Прощаюсь с Беллой недалеко от ее дома, рой мошкары пляшет в свете фонаря все над той же пожелтевшей газетой со столбцами имен под стеклянной витриной: ее уже несколько месяцев не меняли. Решаю не возвращаться в затхлые комнаты института; последним автобусом еду в горы, выхожу на Перевале, у ресторана, где гулянье в разгаре, пенье и крики, и девицы-гусары с бледными от усталости лицами не то, чтобы скачут, а просто валятся с ног между столами.
Тут же по тропинке почти скатываюсь в сторону Чатыр-Дага, и сразу – тишина, забвение, мягкая луговая трава, стрекотание цикад. Прямо над головой во всю громаду – Эклизи-Бурун – вершина Чатыр-Дага, и мне предстоит сейчас, при свете луны, взобраться на нее.
Оказывается, луг довольно велик. Ступаю по мягко пружинящим травам – пронзительный крик из-под моей подошвы, и какой-то зверек, визжа и постанывая, катится в травах. От неожиданности присаживаюсь на корточки, унимаю сердцебиение: ведь это какое должно быть безмолвие, полная нирвана, чтобы зверек потерял бдительность, заснул, не почувствовал моего приближения.
Начинаю подъем. При свете луны в отвесной скале виден каждый выступ с пятачок, на который можно поставить ногу, передохнуть. Тело становится собранным, цепким и легким. Хватаясь за кусты можжевельника, как за протянутые руки, быстро решаю, в какую сторону рвануться, куда перебросить тяжесть тела.
Через полчаса я на вершине; оглядываюсь: место, откуда начал подъем, зияет невероятной пропастью, и вся долина с едва мерцающими светляками Перевала, кажется, дном, просвечивающим сквозь толщу пронизанных лунным светом вод.
Утром завтракаем за столиком, рядом с палатками.
Сергей Александрович даже за завтраком в шляпе с неизменным пером, похожий на юркого состарившегося мальчика рядом с палеонтологом, красноглазым, тяжким, как утюг, с ограниченным поворотом шеи стариком, профессором Богачевым. О нем ходят легенды среди студентов, столь же чугунные, как и он сам: о том, как однажды через всю аудиторию, поверх студенческих голов, куском породы запустил в мышь, о том, как, везя студентов на практику, занял нижнюю полку в общем купе, вышел на минуту. На полку присел какой-то шумный грузин; ребята ему: "Это полка профессора, вы лучше не занимайте ее", а грузин: "Какой профессор, я сам сэбэ профессор". Входит Богачев, смотрит, не поворачивая головы и не мигая красными своими глазами, в упор на грузина, а тот вертится: "Послушай, кацо, ты профэссор, я профэссор…" "Уйди", говорит Богачев, не мигая."Послюшай, ты… я", не унимается грузин. Богачев огибает его, садится у окна, упирая ноги в стенку вагона и… задом вышибает грузина с полки. Этот специалист с мировым именем как-то в свое время не обратил внимания, что идет мировая война, продолжал заниматься своими моллюсками, немцы не тронули этого чудака. зато свои, после освобождения Крыма, занялись им вплотную: старик отсидел десятку, за это время единственно близкое ему существо, мать умерла, а он бросился к своим моллюскам, как будто никакого перерыва в десять лет и не было. Завтракая, он едва шевелит челюстью и похож на какое-то диковинное ископаемое, ожившее лишь потому, что вдруг увидело пеструю птичку, севшую на вершину палатки, вертящуюся и чирикающую.
Ассистентка Ковалевского Надежда Васильевна, сидит рядом с нами, причесанная, улыбающаяся. Для нас не секрет, что это именно для нее старичок одевает шляпу с щеголеватым пером, белый полотняный костюм.
Отправляемся втроем – профессор, Игнат и я – в маршрут. Сначала спускаемся в пещеру Бин-Баш-Хоба – Тысячеголовую, названную так, ибо в свое время здесь обнаружили более тысячи черепов. В давние войны скрывающихся в такой пещере душили дымом, разжигая костры у входа, тяга в пещере весьма ощутима, вход в нее испещрен именами туристов; заходить вглубь они боятся. Завязывается какой-то сумбурный разговор: Мне слова "Хоба" напоминает "Кохба", и я говорю о пещерах в Иудейской пустыне, в которых прятались воины Бар-Кохбы и просто евреи после разгрома восстания, и даже римляне не додумались выкуривать их дымом, старик сыплет в ответ татарскими и латинскими словами. Тут вмешивается Игнат, который давно подразнивает старика, и говорит, что читать надо не "Хоба", а "Хоба", и это напоминает ему – "Коба".
Старик хмурится и замолкает. Входим в солнечный, весь просвистанный птицами орешник. Старик оживляется, начинает носиться между кустов: "Ну-ка, кто больше наберет орешков". Один карман у него и так отвисает под тяжестью фотоаппарата. Старик не знает секрета, которым владеет Игнат. На поверку у меня орешков и вовсе ничего, у Игната чуть больше, а у старика уйма. "Так они же все пустые", говорит, не моргнув, крестьянский сын Игнат, – глядите, у них же хвостики не отпали". Старик смеется: "Просто завидуешь", начинает щелкать: и вправду все пустые. Старик опять обиженно, как ребенок, хмурится.
Бежит речушка, пенясь между камней. У старика глаза заблестели от новой идеи: ловить форель. Она же обычно стоит в струе, под камнем, ее только рукой и взять. Часа полтора занимаемся этим пустым делом, и не поймав ни одной форели, в приступе деятельности начинаем складывать камни в плотину: вода хлещет сквозь пальцы, солнечный дождь трепещет над нами в листве, старик бегает вдоль речушки, суетясь, подбадривая, щелкая нас фотоаппаратом, водружаем на шест в виде флага Игнатову майку, и тут Игнат опять попадает в десятку: "Назовем эту плотину именем

Судьба этого романа – первого опыта автора в прозе – необычна, хотя и неудивительна, ибо отражает изломы времени, которые казались недвижными и непреодолимыми.Перед выездом в Израиль автор, находясь, как подобает пишущему человеку, в нервном напряжении и рассеянности мысли, отдал на хранение до лучших времен рукопись кому-то из надежных знакомых, почти тут же запамятовав – кому. В смутном сознании предотъездной суеты просто выпало из памяти автора, кому он передал на хранение свой первый «роман юности» – «Над краем кратера».В июне 2008 года автор представлял Израиль на книжной ярмарке в Одессе, городе, с которым связано много воспоминаний.

Крупнейший современный израильский романист Эфраим Баух пишет на русском языке.Энциклопедист, глубочайший знаток истории Израиля, мастер точного слова, выражает свои сокровенные мысли в жанре эссе.Небольшая по объему книга – пронзительный рассказ писателя о Палестине, Израиле, о времени и о себе.
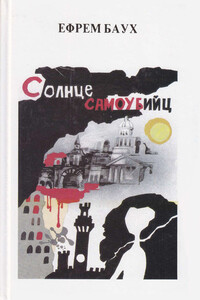
Эфраим (Ефрем) Баух определяет роман «Солнце самоубийц», как сны эмиграции. «В эмиграции сны — твоя молодость, твоя родина, твое убежище. И стоит этим покровам сна оборваться, как обнаруживается жуть, сквозняк одиночества из каких-то глухих и безжизненных отдушин, опахивающих тягой к самоубийству».Герои романа, вырвавшись в середине 70-х из «совка», увидевшие мир, упивающиеся воздухом свободы, тоскуют, страдают, любят, сравнивают, ищут себя.Роман, продолжает волновать и остается актуальным, как и 20 лет назад, когда моментально стал бестселлером в Израиле и на русском языке и в переводе на иврит.Редкие экземпляры, попавшие в Россию и иные страны, передавались из рук в руки.

Роман Эфраима Бауха — редчайшая в мировой литературе попытка художественного воплощения образа самого великого из Пророков Израиля — Моисея (Моше).Писатель-философ, в совершенстве владеющий ивритом, знаток и исследователь Книг, равно Священных для всех мировых религий, рисует живой образ человека, по воле Всевышнего взявший на себя великую миссию. Человека, единственного из смертных напрямую соприкасавшегося с Богом.Роман, необычайно популярный на всем русскоязычном пространстве, теперь выходит в цифровом формате.

Новый роман крупнейшего современного писателя, живущего в Израиле, Эфраима Бауха, посвящен Фридриху Ницше.Писатель связан с темой Ницше еще с времен кишиневской юности, когда он нашел среди бумаг погибшего на фронте отца потрепанные издания запрещенного советской властью философа.Роман написан от первого лица, что отличает его от общего потока «ницшеаны».Ницше вспоминает собственную жизнь, пребывая в Йенском сумасшедшем доме. Особое место занимает отношение Ницше к Ветхому Завету, взятому Христианством из Священного писания евреев.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.
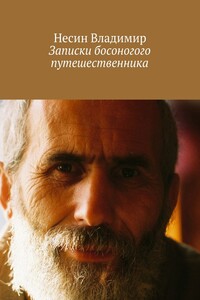
С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.

«В этой книге я не пытаюсь ставить вопрос о том, что такое лирика вообще, просто стихи, душа и струны. Не стоит делить жизнь только на две части».

Пьесы о любви, о последствиях войны, о невозможности чувств в обычной жизни, у которой несправедливые правила и нормы. В пьесах есть элементы мистики, в рассказах — фантастики. Противопоказано всем, кто любит смотреть телевизор. Только для любителей театра и слова.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.
