За Маркса - [4]
Вторая констелляция, разработанная в этой книге, организована вокруг понятия структуры. Разумеется, оно тоже отсылает к идее систематического единства или «тотальности», которая, однако, дана только в своих эффектах, совершенно имманентно или как «отсутствующая», в строгом смысле слова «неотделимая» от них «причина» (Альтюссер позднее сравнит ее с присутствием субстанции Спинозы в своих модусах). Важным в данной связи — поскольку речь идет о Марксе и о типе причинности, который он и марксисты после него (в особенности Ленин в своих аналитических исследованиях конъюнктуры, «конкретных ситуаций») стремились открыть в истории — является то, что множественность, с которой мы имеем дело, есть множественность практик. Структурировать ансамбль практик значит сделать постижимым тот способ, которым они воздействуют друг на друга. Альтюссер говорит нам, что они делают это исключительно в модусе сущностной и нередуцируемой сверхдетерминации, за пределами которой никакая «редукция сложности» никогда не позволит обнаружить простоту линеарного детерминизма. Напротив, чем с большей силой утверждается «детерминация в конечном счете» со стороны одной из них (которую Маркс отождествляет со способом производства и эксплуатации труда), тем с большей силой проявляется необходимость гетерогенной «доминанты» и, как следствие, умножение препятствий реализации «чистой» экономической тенденции — тех самых препятствий, которые в ином смысле составляют весь материал классовой борьбы, этого единственного подлинного «движущего принципа истории».
Оставляя в стороне все схоластические дебаты вокруг вопроса о «структурализме», отметим, что такая концепция структуры негативно определяет себя с помощью двойного отрицания как «индивидуалистических», так и «органицистских» или «холистских» методологий, которые ведут друг с другом спор в эпистемологии гуманитарных наук. Поэтому она, по крайней мере формально, готова дать философское выражение той теории социального как комбинации изначально трансиндивидуальных «отношений», которую постоянно разрабатывал Маркс, после того как в «Тезисах о Фейербахе» он признал ее необходимость как ответа на классические формы идеализма и материализма[1]. Ее дополнением является чрезвычайно интересный набросок критики антропологической категории «сознания» в терминах структуры очуждения или диссоциации форм субъективного времени, который предстает перед нами в эссе ««Пикколо», Бертолоцци и Брехт (Заметки о материалистическом театре)», являющемся подлинным геометрическим и теоретическим центром всей книги (которое, однако, фигурирует здесь как некое «похищенное письмо», — в том смысле, что никто не читает его как таковое, быть может, по той причине, что речь в нем идет об эстетике и о театре).
Но здесь снова раскрывается одна трудность, внутренне присущая тому способу, которым Альтюссер использует идею «структуры» для того, чтобы помыслить в конечном счете не столько историю или историчность, сколько необходимость случайности в истории. Не только в связи с эволюцией теории Маркса, но вообще. Было бы нетрудно показать, что эта трудность никогда не исчезала из теоретических применений, остававшихся наиболее верными альтюссерианской схеме. С одной стороны, идея сверхдетерминации применялась для понимания события (того, что Альтюссер называет «конъюнктурой», ленинским «текущим моментом», обращаясь к привилегированным примерам революционных и контрреволюционных ситуаций), вместе с парадоксальной комбинацией непредвиденности и необратимости, которая с ним связана. С другой стороны, она применялась для трансисторического сравнения способов производства, т. е. для понимания исторической тенденции развития классовой борьбы и самих общественных формаций, идею которой следовало отвоевать у идеологий прогресса, экономистского эволюционизма и эсхатологии «конца истории». Иными словами, она применялась для понимания коммунистических революций, с одной стороны, и процессов перехода к социализму — с другой… Но, строго говоря, это отнюдь не одно и то же. Когда мы читаем и перечитываем два больших эссе о «Противоречии и сверхдетерминации» и «О материалистической диалектике», которые предстают перед нами как единое целое, мы можем, как мне кажется, заметить, что первое извлекает понятие сверхдетерминации из идеи события, в то время как второе развивает его, исходя из тенденции и периодизации. Решение, разумеется, не заключается в том, чтобы сделать выбор в пользу одной точки зрения за счет другой. Скорее оно заключается в том, чтобы рассматривать «За Маркса» и его идею структуры как чрезвычайно сжатую и плотную, но отнюдь не окончательную разработку вопроса об историчности, в котором содержится напряжение между этими двумя точками зрения и даже их взаимосвязь.
Наконец, мы сталкиваемся в этой книге с констелляцией, организованной вокруг понятия и проблемы идеологии. Возможно, что после тридцати лет дискуссий по этому вопросу, которые тоже образуют собой определенный цикл, как среди тех, кто (как по политическим, так и по философским причинам) не желает отказываться говорить об «идеологии и идеологиях», так и среди тех, кто видит в этом главное препятствие на пути герменевтики или генеалогии исторического дискурса, мы можем наконец сказать об «альтюссерианской» концепции идеологии несколько простых вещей.
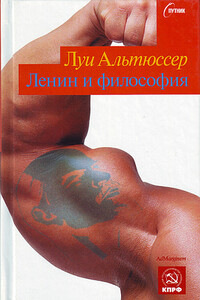
В философском смысле Ленин непереносим — или был непереносим какое-то время — для всех нас. Потому что в глубине души вопреки всем разговорам о догматичности ленинской философии философы интуитивно чувствуют: не в этом суть дела… Знаю, говорит Ленин, мои формулировки и определения расплывчаты; знаю, философы будут обвинять материализм в "метафизичности". Но суть не в этом. Я не просто не разделяю их философию, я отношусь к философии иначе, я воспринимаю ее как практику… И подлинная проблема в том, что Ленин поставил под вопрос эту традиционную философскую практику и предложил взамен совершенно иное отношение к философии.
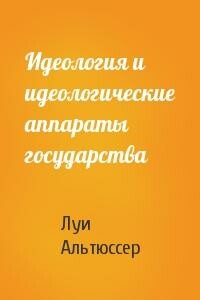
Луи Пьер Альтюссер (1918–1990) – французский философ-марксист, теоретик структуралистской версии марксизма. Член Французской коммунистической партии (1948–1980), профессор Высшей нормальной школы (Париж).

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.

Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.