За иконой - [3]
Мне становится жутко. Андрей Иванович хмурится. Мы стоим в густой давке, на откосе тракта, а мимо нас, точно река, сжатая берегами, густо, величаво и плавно несется уже сплошная толпа, давно охватившая группу с кликушей, которая неистово вырывается из рук, мечется, кидается в стороны...
Икона близко... Резкий, нечеловеческий вопль покрывает и смешивает на мгновение пение хора.
Из толпы, головой выше всех, выделяется фигура странника с длинными волосами, опаленным лицом и мрачным взглядом. Огромный, сухой, странно равнодушный, он легко прокладывает себе дорогу в толпе, наклоняется, подымает на плечи "порченую", которая судорожно бьется у него в руках, и, раздвигая поток человеческих тел, несет ее навстречу иконе... Пронеся несколько саженей, он кидает свою ношу на землю, склоняется над нею, и живой поток смыкается, покрывая обоих...
Еще один подавленный крик... Ряды фонарей, крестов, хоругвей уже далеко впереди... Кругом только мерный топот и гул неудержимого, как стихия, человеческого потока. В клубах кадильного дыма, в волне торжественного пения, колыхаясь и сверкая на солнце, икона плывет в воздухе над этим океаном обнаженных голов, - над подавленным, строптивым воплем "одержимой"... Пение, все такое же стройное, все тише, все мягче расплывается в воздухе, я сквозь редеющий топот уже вновь пробивается ласковый шорох и шелест придорожных берез...
Молодая женщина лежит в пыли, на дороге. Она тихо вздрагивает и как-то по-детски плачет... Любопытные заглядывают через плечи родственников, сомкнувшихся вокруг "порченой", а странник, такой же равнодушный и мрачный, опять прокладывает себе путь вперед, ближе к иконе...
Жарко... Как-то сразу я чувствую и зной, и то, что котомка невыносимо отдавила мне плечи, и всю трудность пути за этою быстро уносящеюся толпой. Андрей Иванович остановился и смотрел вправо. Там, с крутого обрыва, виднеется гладкая излучина Оки. Река лежит среди сырых и парящих от зноя лугов, светлая, ровная. Оттуда, снизу, так и манит, так и веет свежестью и прохладой.
- Вот что, - решает Андрей Иванович, - надо купаться!
- Далеко, милые, отстанете, - дружелюбно говорит какая-то богомолка, торопливо пробегающая мимо нас, но мы решаемся и быстро спускаемся по обрыву, поросшему орешником.
Тихий берег. Гребень обрыва скрыл от нас толпу с ее говором и движением. По временам на этом гребне мелькают цветные фигуры, в одиночку и парами, все реже и реже. Река плещет в каменистый берег. Вправо, верстах в десяти, из-за реющего тумана виднеются строения и церкви Канавина. На нашей стороне, дымя высокими трубами, бесшумно работает завод. После суетливого речного движения Волга ее соседка Ока производит странное впечатление. Как здесь тихо! Далеко, на той стороне, вдоль песков, скользит парусная лодка. Под горой ("яром", как здесь называют) по берегу движется темное пятно. Это бурлаки, которых вы почти уже не встретите по Волге, ведут бечевой небольшую барку. Пятно будто стоит на месте, и только после долгих промежутков видно, что оно становится меньше, все удаляясь вверх по реке. Дрянной окский пароходишко пробегает из Нижнего, гулко шлепая колесами среди пустынных берегов. На палубе никого не видно, даже на трапе пусто. Только, затерявшись у штурвала, виднеется одинокая фигура лоцмана.
III
Когда, выкупавшись, мы опять поднялись на гору, - дорога совсем опустела. У "мызы", на свежем воздухе, семья хозяина благодушествовала за самоваром. Несколько переселенческих телег стояли тут же с подвязанными кверху оглоблями. По всей дороге, взбегающей на горку, не было видно никаких следов крестного хода. Кое-где только по сторонам шли нам навстречу увлеченные общим течением и теперь возвращавшиеся обратно горожане.
- Далеко икона?
- В Новой деревне молебен отслужили.
Прибавив шагу, мы быстро миновали Новую деревню. Тут попадались уже отсталые. Пьяный мужик плелся неверным шагом, грустно помахивая из стороны в сторону своею кудрявою головушкой.
- Н-не догнать будет, мил-лаи... Н-и-и. Она, владычица-те, чай, уж куда улетела. В Борисове теперь... А мы, по грехам-те нашим, отстали вот... Ах, мил-лаи!..
И мужик долго качал сзади нас победною головушкой, объятый глубокой скорбью. Наконец, вероятно изнемогая в неравной борьбе с своею греховностью, он присел у дорожной канавы. Оглянувшись, мы увидели бедного человека с запрокинутою головой, и что-то вроде бутылки сверкало в его руках на солнце. Вскоре только красное пятнышко, лежавшее на зеленом фоне придорожной муравы, обозначало место победы греха над благочестивым стремлением...
Впрочем, кудрявый мужик не один испытал эту горькую участь. В тени березок, а иногда и в грязи канав, то и дело попадались нам тела других павших.
А вот на свалившемся и полусгнившем дереве отдыхает какая-то компания. Седой еврей в солдатской шинели, с громадною лохматою бородой и белыми кудрями да еще три-четыре мрачных субъекта более или менее сомнительной наружности... Седой старик, очевидно, пристал к ним сейчас. Один из компании наклоняется к его уху и кричит:
- Ступай ты, служивый, от нас. Не рука нам, значит... Иди, иди!
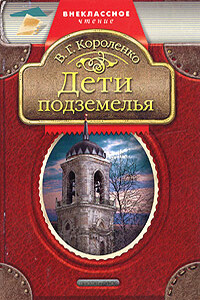
В своей повести «Дети подземелья» известный русский писатель В.Г.Короленко (1853-1921) затрагивает вечные темы дружбы, любви, добра, заставляет сопереживать, сочувствовать юным героям, их нелегкой жизни, полной лишений.Книга адресуется детям младшего и среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
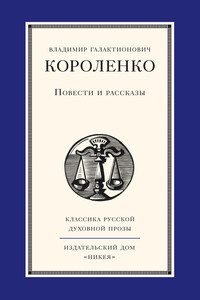
В. Г. Короленко – известный русский писатель, публицист и общественный деятель – в своих литературных произведениях глубоко исследовал человеческую душу. Понятие справедливости было главным для писателя, и его жизненная дорога стала путем правдоискателя и миротворца, который не закрывает глаза перед чужим горем. Все его герои – крестьяне или дворяне, паломники или бродяги, заключенные или их надзиратели – ищут справедливости, преодолевают себя, борются со слабостями, греховным унынием и эгоизмом («Слепой музыкант»), пытаются выжить в тяжелых условиях среди чужих им людей («Сон Макара»)

Рассказ написан в 1894–1895 годах, напечатан в первых четырех книгах журнала «Русское богатство» за 1895 год. Для первого отдельного издания, вышедшего в 1902 году, Короленко подверг рассказ значительной переработке: был дописан ряд эпизодов, введены новые персонажи, в том числе Нилов, осуществлена большая стилистическая правка; объем произведения увеличился почти вдвое. Материалом для рассказа послужили впечатления и наблюдения писателя, связанные с его поездкой летом 1893 года в Америку, на всемирную выставку в Чикаго.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».