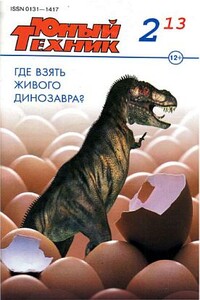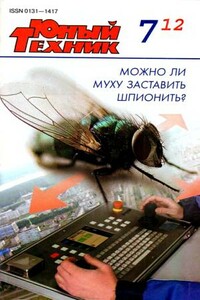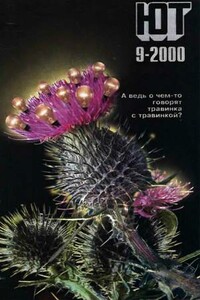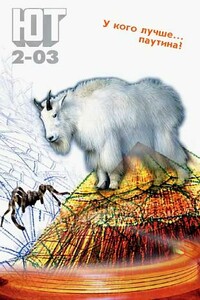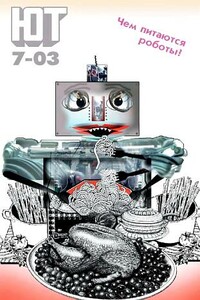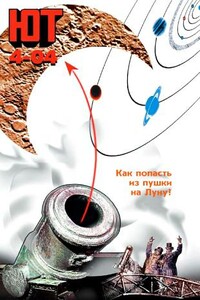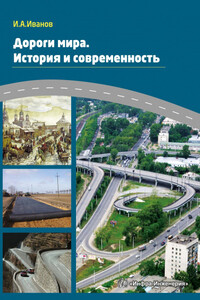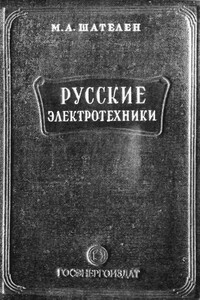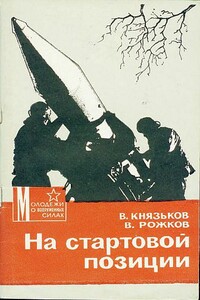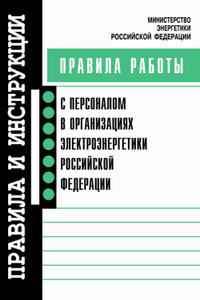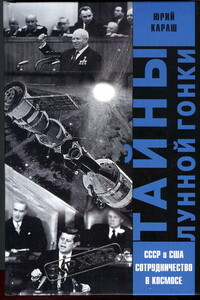ПАССАЖИРЫ «БИОНА». На созданном в Самаре биоспутнике «Бион-М1» осенью этого года впервые в мировой практике пройдут исследования на этапах запуска и посадки космического аппарата, сообщил заместитель директора Института медико-биологических проблем В. Бояринцев.
По его словам, полученные в результате экспериментов на «Бионе» данные позволят продлить профессиональное долголетие космонавтов, найти новые способы компенсирования неблагоприятных воздействий, которые испытывают космонавты в полете.
В течение 30-суточного полета, старт которого намечен на 10 сентября, будут проведены около 70 различных экспериментов.
Космонавтами на специализированном спутнике станут монгольские хомячки-песчанки, мыши, ящерицы гекконы и другие животные. Как отметил Бояринцев, на борту «Биона» будет больше «хвостатых космонавтов», чем было на борту «Фотона-М3», запущенного в сентябре 2007 года. «Мы рассматриваем «Бион» как своеобразный «ноев ковчег» со многими видами «пассажиров» — от низших микроорганизмов до позвоночных животных», — сказал он.
К сказанному остается добавить, что выполнение научной программы на аппаратах «Бион» началось в 1973 году. Всего было запущено 11 специализированных биоспутников, последний — в 1996 году. В космосе побывали 37 различных биологических объектов — от одноклеточных организмов до обезьяны. Благодаря исследованиям на «Бионах» был сделан вывод о возможности безопасного для человека пребывания в космосе сроком до года.
СОЗДАНО В РОССИИ
Дело ледоколов
На фото вверху макет ледокола «косого хода».
Россия расположена на земном шаре таким образом, что большинство портов у нас зимой замерзает. А потому, наверное, русские первыми и задумались над изобретением кораблей, которые бы могли прокладывать среди ледовых полей судоходные каналы.
Случилось это почти 150 лет тому назад. А недавно, спустя полтора века, наши конструкторы снова нашли, чем удивить мир.
«Пайлот» гражданина Бритнева
«Дело ледоколов зародилось у нас в России. Впоследствии другие нации опередили нас, но, может быть, мы опять сумеем опередить их, если примемся за дело.
Первый человек, который захотел бороться со льдами, был кронштадтский купец Бритнев», — писал адмирал С.О. Макаров в 1896 году, когда старался убедить правительство в необходимости постройки в России мощного линейного ледокола. Событие же, о котором писал адмирал, имело место в 1864 году. Осень тогда выдалась необычно затяжной. Финский залив замерз лишь частично, да так неудачно, что пароходное сообщение между столицей, островным Кронштадтом и Ораниенбаумом прекратилось, а проложить санный путь, как обычно делали с наступлением зимы, никак не удавалось — ледовый покров был недостаточно прочным.
В Кронштадте между тем подошли к концу запасы продовольствия, не хватало топлива; был вынужден прекратить работу даже Морской завод. Тогда власти и вспомнили, как тремя годами раньше кронштадтский купец и судовладелец М.О. Бритнев организовал перевозку пассажиров между Кронштадтом и материком на своих пароходах, которые сумели пробиться сквозь непрочный лед.
Обратились к нему. Тот, прислушавшись к совету так и оставшегося неизвестным изобретателя, приспособил для проводки судов портовый буксир «Пайлот», ограничившись небольшими переделками. Прямой форштевую часть ниже ватерлинии «подрезали» под углом 20 градусов, чтобы судно могло вползать на лед и давить его свой тяжестью.
И вот в апреле 1864 года газета «Кронштадтский вестник» сообщила, что винтовой пароход «Пайлот» почетного гражданина Бритнева открыл навигацию раньше, чем Финский залив очистился ото льда, доставив удобство пассажирам и перевозчикам грузов.
От гирь толку мало…
В 1866 году чины Морского ведомства задумали сравнить возможности «Пайлота» и ледокольного судна «Опыт», который колол лед специальными гирями, сбрасываемыми с борта. По свидетельству очевидцев, «гири падали, делали во льду отверстия, но раздвинуть разбитый лед ледоколу недоставало силы»… Таким образом преимущество осталось за «Пайлотом».
Столь убедительная демонстрация превосходства бритневского судна не подействовала ни на флотских инженеров, ни на судовладельцев. Еще некоторое время изобретатели предлагали более перспективные, по их мнению, проекты оснащения ледокольных судов всевозможными устройствами — например, циркульными пилами и закрепленными перед форштевнем катками, которые должны крушить лед перед судном. Предлагалось даже встраивать в корпус вертикальное колесо с шипами-лопастями. По задумке, эти шипы должны были дробить лед, захватывать обломки и поднимать на палубу, очищая фарватер. По другому замыслу, в носовой части надо было сделать наклоненную к воде плоскость, вроде широкого и плоского тарана, по которой лед станет сам заползать на верхнюю палубу. Впрочем, ни один из подобных прожектов так и не опробовали на практике.