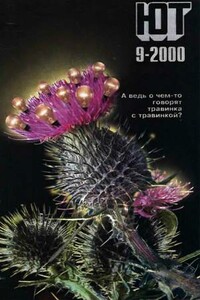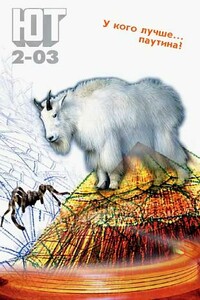Страж исключил всякую возможность побега, в два счета подавлял любой мятеж и значительно облегчил жизнь надзирателям.
— Тюремщиков как таковых у нас тут и вовсе нет, — подчеркнул Уордмэн. — Нам требуется только обслуга для столовой, лазарета и так далее.
Испытывали Стража на так называемых государственных преступниках; уголовников сия чаша миновала.
— Можно сказать, — с ухмылкой добавил Уордмэн, — что здесь собрана вся наша непослушная оппозиция.
— Иными словами, политические заключенные, — уточнил репортер.
— Нам не нравится это определение, — с неожиданной холодностью ответил Уордмэн. — От него так и разит коммунизмом.
Репортер извинился за неточное выражение, торопливо закончил интервью, и вновь обретший былое благодушие Уордмэн проводил его до выхода.
— Ну, видите? — сказал он, широким жестом обводя всю зону.
— Ни стен, ни вышек с пулеметами. Наконец-то у нас есть образцовая тюрьма.
Ревелл пластом лежал на спине, таращился в потолок и думал: «Я не знал, что будет так погано. Я не знал, что будет так погано…» Он представил себе, как берет большую черную кисть и выводит на безукоризненно белом потолке: «Я не знал, что будет так погано».
— Ревелл!
Поэт чуть повернул голову, увидел стоящего возле койки Уордмэна, но притворился, будто не замечает его.
— Мне сказали, что вы очнулись, — продолжал тюремщик.
Ревелл молчал.
— Я ведь еще в первый день пытался вас вразумить, — напомнил ему Уордмэн. — Предупреждал, что бежать бессмысленно.
— Не мучайтесь, все в порядке, — ответил Ревелл. — Вы делаете свое дело, я — свое.
— Не мучиться? — вытаращив глаза, переспросил Уордмэн. — Мне-то с чего мучиться?
Ревелл взглянул на потолок. Мысленно выведенная надпись исчезла без следа. Он пожалел, что нет карандаша и бумаги: слова утекали из сознания, как вода из решета, и, чтобы подхватить их, нужны были бумага и карандаш.
— Могу я получить карандаш и бумагу? — спросил он.
— Чтобы писать новые скабрезности? Разумеется, нет.
— Разумеется, нет, — повторил Ревелл и, смежив веки, посмотрел вслед исчезающим словам. Нельзя одновременно и сочинять и запоминать. Надо выбрать что-то одно. Ревелл уже давно выбрал сочинительство, но положить придуманное на бумагу не мог, и мысли просачивались сквозь сознание, будто вода, и разрушались, очутившись в необъятном внешнем мире.
— Чтобы выбраться на волю, стал я бочкой, полной боли.
Все болит — бока, подмышки. Буду жить или мне крышка? — пробормотал он.
— Боль проходит, — успокоил его Уордмэн. — Уже должна была пройти: вы тут трое суток лежите.
— Она скоро вернется, — ответил Ревелл. Он открыл глаза и мысленно начертал на потолке: «Скоро вернется».
— Не валяйте дурака. Ничего у вас не заболит, если, конечно, опять не ударитесь в бега.
Ревелл молчал. Бледная улыбка на лице Уордмэна сменилась хмурой миной.
— Нет, — сказал он. — Вы этого не сделаете.
Ревелл с легким удивлением взглянул на него.
— Еще как сделаю. Разве вы не знали, что я попытаюсь бежать?
— Никто не бежит отсюда дважды.
— Я никогда не сдамся, неужели непонятно? Никогда не перестану существовать. Никогда не разуверюсь в своем предназначении. Вы должны были сразу догадаться.
— И вы пройдете через это снова?
— Столько раз, сколько нужно, — ответил Ревелл.
Уордмэн сердито наставил на него палец.
— Вы просто хорохоритесь!! Но если уж вам неймется испустить дух, я мешать не стану. А вы наверняка окочуритесь, если мы не притащим вас обратно.
— Это тоже своего рода освобождение, — сказал Ревелл.
— Вот, значит, чего захотели? Ну, ладно, отправляйтесь.
Только поверьте моему слову: больше я за вами посылать не буду.
— Тогда вы проиграете, — Ревелл наконец удостоил Уордмэна взгляда. Тупая злобная рожа. — Правила-то ваши.
Стало быть, вы продуетесь, играя по собственным правилам. Говорите, ваша черная коробочка меня остановит? Но это значит, что по милости вашей черной коробочки я перестану быть самим собой. Утверждаю, что вы не правы. Каждый мой побег станет вашим очередным поражением. А если черная коробочка меня угробит, вы будете разбиты наголову.
Уордмэн распростер руки и заорал:
— Так вы думаете, это игра?!
— Конечно, — ответил Ревелл. — Что еще вы могли изобрести?
— Вы сошли с ума, — рявкнул Уордмэн и шагнул к двери. — Вам не здесь надо сидеть, а в дурдоме.
— Отправите меня туда — тоже проиграете, — сказал Ревелл, но Уордмэн уже ушел, хлопнув дверью.
Поэт остался один. Он и прежде боялся черной коробочки, но теперь, когда понял, что она может с ним сотворить, испугался еще больше — так, что свело живот. Но перестать быть собой тоже страшно. Этот страх абстрактен и умозрителен, но так же силен. Даже сильнее: ведь он подталкивает к новому побегу.
— Но я не знал, что будет так погано, — прошептал Ревелл и опять мысленно вывел эти слова на потолке. На сей раз красной кистью.
Уордмэна предупредили загодя, и он поджидал Ревелла у дверей лазарета. Поэт похудел, осунулся, даже, кажется, немного постарел. Он прикрыл ладонью глаза от солнца, посмотрел на Уордмэна, сказал: «Прощайте» — и зашагал на восток.
Уордмэн не поверил.
— Вы блефуете! — крикнул он вслед, но Ревелл не остановился.
Уордмэн не помнил, чтобы когда-нибудь испытывал такую злость. Его подмывало ринуться вдогонку и прикончить поэта голыми руками, но тюремщик лишь сжал кулаки и напомнил себе, что он — человек мыслящий, разумный и милосердный. Точно такой же, как Страж. Тот требует только повиновения. Уордмэн тоже. Тот карает лишь бессмысленную браваду. Уордмэн тоже. Ревелл — враг общества, он так и норовит разрушить свою личность, и его следует проучить. И ради общественного блага, и ради него самого. Надо преподать ему урок.