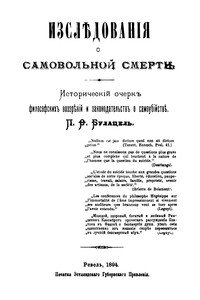Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования - [160]
Связь героя «Четвертой прозы» с казнимым деревом проводится через посредство еще одного смыслового компонента: указания на его «царское» происхождение; соответственно, о дереве в нашем тексте сказано, что оно «княжило в своей ложнице». Тем самым образ срубленного — «поверженного» — дерева проецируется на идею свергнутого монарха. Эта ассоциация придает дополнительный смысловой обертон образу «веревки», и в частности, высвечивает ее эпитет «тонкая». Образ тонкой веревки, «накинутой» на горло-развилину, вызывает ассоциацию не только с повешением, но также с удушением. Как кажется, в ассоциативную ткань этого места текста вплетаются слова Пушкина (со ссылкой на мадам де Сталь) о том, что «правление в России есть самовластье, ограниченное удавкою». Эта реминисценция позволяет еще теснее сплавить и образ казни у Толстого, и образ русского «самовластья» (проекция казней 1908 года), и его последующего падения. Я не буду останавливаться на продолжении этой линии мотивных связей, ведущем к Французской революции, которое в полной мере проявится в других главах «Путешествия в Армению», в частности в портрете Ламарка. Можно было бы также проследить связь образа убийства Павла I, подразумеваемого в словах Пушкина, с тем важным местом, которое тема ’Павловска’ занимала в образном мире Мандельштама («Шум времени», «Концерт на вокзале»).
Все эти компоненты выступают в столь тесном сплаве, что каждый из них теряет свою отдельность, перетекая и растворяясь в других; невозможно определить, где, в ходе этого непрерывного ассоциативного скольжения, заканчивается «царственный» образ писателя и его казни и начинается образ «царского самовластья» и его гибели от «удавки». Взаимно исключающие противоречия сливаются в семантический сплав, отнюдь не утрачивая при этом своей противоположности, полярные по своему изначальному значению элементы оказываются не чем иным, как различными поворотами этой непрерывно движущейся смысловой плазмы.
Заслуживает также внимания наименование писательского племени цыганами, или «романес» (последнее имя каламбурно намекает на занятия этого племени: в дальнейшем в «Четвертой прозе» упомянуто, что от «старейшин» этого племени «пахло луком, романами и козлятиной»). Такие выражения, как «вороватая цыганщина» и «кража», создают ассоциативное поле, притягивающее к себе образ кражи лошадей как типичного ремесла «вороватой цыганщины». Этот мотив, в свою очередь, получает немедленный отзвук в картине казни дерева — в образе тонкой веревки, накидываемой на горло/развилину дерева; в этом образе начинает звучать еще один смысловой обертон: ассоциация с уздечкой или петлей, «накинутой» на похищаемую лошадь.
Мы уже несколько раз сталкивались в фактуре анализируемого текста с деталями, указывающими на мотив антагонизма с официальной церковью. Мотив этот тем более существенен, что он проходит и через целый ряд выражений «Четвертой прозы». Так, старейшины племени, совершающие над героем «гнусный ритуал», названы «священниками»; несколько ранее в «Четвертой прозе» читаем:
Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова[217].
«Официальная литература» сополагается с «официальной церковью»; эти «коллективные» феномены равным образом враждебны миру, представленному творческой личностью и «одиноким» (вспомним лермонтовскую реминисценцию) деревом. Присутствие этого мотива привносит новые обертоны в смысл выражения «поверженный истукан», описывающего гибель (свержение) «княжившего» дерева. В данной проекции это выражение напоминает об эмблематическом образе крещения Руси: свержение деревянного идола Перуна с горы в Днепр. Теперь проясняется, что мотив Перуна был скрыто подготовлен уже в начале текста — в разговорно-фамильярном речении «что гром, что бром». В реминисцентное поле «гнусного приговора», исполняемого над деревом (и над писателем), вовлекается образ торжества официального христианства над языческим божеством; в этой проекции находит подкрепление уже всплывавший на другом повороте мотивной инфраструктуры смысловой оттенок выражения «зеленая божба» в качестве знака языческого пантеизма. Данная линия мотивных сцеплений придает еще одну проекцию образу веревки: это веревка, накинутая на свергаемый «истукан» (а вместе с тем, по-видимому, напоминание о повергнутых с пьедесталов царских статуях как символе свергнутого самодержавия).
Проанализированная — или, вернее, сформировавшаяся в ходе анализа — смысловая картина представляется достаточной для того, чтобы составить представление о процессах мотивной работы, из которых вырастает смысловая индукция текста. Я опускаю многие детали, которые могли бы более или менее существенно повлиять на смысловую конфигурацию этой картины; не буду также останавливаться на более широких натурфилософских и историко-культурных идеях, прорастающих в данном фрагменте при его проекции в более широкий контекст всего «Путешествия в Армению» и тесно связанных с ним стихотворений Мандельштама начала 1930-х годов. Для наших целей достаточно ограничиться тем смыслом, который эта главка «Путешествия» заключает в себе в качестве относительно замкнутого текстуального целого. Толстовский по своему происхождению образ «смерти дерева» проецируется Мандельштамом на его собственную литературную судьбу, и в этом качестве сливается с судьбой самого Толстого, в его конфликте с официальной моралью. Заметим, что в начале сцены дерево предстает омертвевшим, оно «ничего не слышит и не понимает»; более того, упоминается его «казенная толщина», связывающая его с миром «собраний» и «постановлений». Пробуждение и обновление дерева происходит лишь в момент исполнения «гнусного приговора». Именно атакой перспективе видел Мандельштам перелом в своей судьбе, произошедший в связи с известным «делом Горнфельда». Из благополучного литератора, принимающего активное участие в издательской, переводческой и литературно-полемической жизни второй половины 1920-х годов, он превращается в парию, «обесчещенного» членами литературного «племени»; но вместе с тем — именно эта катастрофа вернула Мандельштаму способность к поэтическому творчеству: он вновь начинает писать стихи, после более чем пятилетнего перерыва, пришедшегося на наиболее успешную с внешней стороны полосу его жизни. Эта противоположность житейского благополучия и достигаемой на его путях «казенной толщины» творческому «сознанию» добавляет в нарисованную картину еще один толстовский мотив, еще один канал, связывающий судьбу автора «Четвертой прозы» и «Путешествия в Армению» с судьбой Толстого.
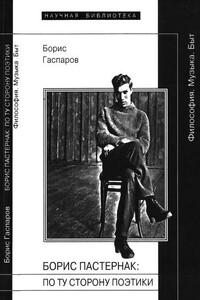
Интенсивные, хотя и кратковременные занятия Пастернака музыкой и затем философией, предшествовавшие его вхождению в литературу, рассматриваются в книге как определяющие координаты духовного мира поэта, на пересечении которых возникло его творчество. Его третьим, столь же универсально важным измерением признается приверженность Пастернака к «быту», то есть к непосредственно данной, неопосредованной и неотфильтрованной сознанием действительности. Воссоздание облика этой «первичной» действительности становится для Пастернака кардинальной философской и этической задачей, достижимой лишь средствами поэзии, и лишь на основании глубинного трансцендентного «ритма», воплощение которого являет в себе музыка.

Эта книга о том, что делает нас русскими, а американцев – американцами. Чем мы отличаемся друг от друга в восприятии мира и себя? Как думаем и как реагируем на происходящее? И что сделало нас такими, какие мы есть? Известный журналист-международник Михаил Таратута провел в США 12 лет. Его программа «Америка с Михаилом Таратутой» во многом открывала нам эту страну. В книге автор показывает, как несходство исторических путей и культурных кодов русских и американцев определяет различия в быту, карьере, подходах к бизнесу и политике.

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.
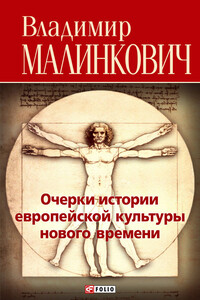
Книга известного политолога и публициста Владимира Малинковича посвящена сложным проблемам развития культуры в Европе Нового времени. Речь идет, в первую очередь, о тех противоречивых тенденциях в истории европейских народов, которые вызваны сложностью поисков необходимого равновесия между процессами духовной и материальной жизни человека и общества. Главы книги посвящены проблемам гуманизма Ренессанса, культурному хаосу эпохи барокко, противоречиям того пути, который был предложен просветителями, творчеству Гоголя, европейскому декадансу, пессиместическим настроениям Антона Чехова, наконец, майскому, 1968 года, бунту французской молодежи против общества потребления.

Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.

Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.