Я здесь - [37]
Картины эти, конечно, не профессиональные, но стильные, и стиль их скорей всего напоминает наскальные рисунки с их натуральными красками: то же отсутствие перспективы, такие же олени, глухарь на ветке, белочка вниз головой на стволе сосны, коротконогий охотник, целящийся в нее из ружья. Эта перевернутая белочка как-то особенно убеждает в подлинности. Кого или чего? Ее самой, охотника, живописи… Гор вглядывается в наши лица, как бы высматривая, нет ли среди нас представителей малых народов Севера. Нет, к сожалению.
Другое, совсем другое дело — Кирилл Косцинский, он же Кирилл Владимирович Успенский (от природы имея литературную фамилию, зачем-то выдумал себе польский псевдоним!). Помню его остроугольный нос, косую челку с проседью, серо-голубой, но пронзительно глядящий глаз, кадык, жилистость лица и фигуры. Говорил он не очень складно: сначала раздавалось эканье-меканье, переходящее порой в некоторое блеянье, а затем выпаливалась отрывистая фраза, из которой торчали и ирония, и намек, и параллельный смысл.
К нему шлялась молодежь не за помощью — он и обругать мог, а мог и выставить бутылку коньяку. Да, именно этот золотистый напиток я запомнил во время первого посещения квартиры Косцинского, находившейся в самом великолепном месте города, на канале Грибоедова у Банковского пешеходного моста с грифонами. Народу было много, и Косцинский щедро угощал: он праздновал выход книги рассказов “Труд войны”. Не Бог весть что, еще одна книга о войне, которую он прошел капитаном армейской разведки. Между прочим, своей капитанской властью остановил расстрел австрийского кабинета министров, захваченного в плен скорыми на расправу освободителями. Разумеется, этой истории в книге не было, и вообще его боевой опыт на качестве прозы не сказался, но на литературном поведении — несомненно: в правлении Союза писателей ежились от его неожиданных резкостей. Свою книгу он мне подарил с надписью: “Диме Бобышеву с пожеланием, чтобы его проза была не хуже его стихов. Кир. Косцинский, Лнгрд 11.3.57”. Легкий намек — не за свое дело не берись. Да я и сам так считал.
В его празднуемой книге (редактор Сергей Спасский — уже в траурной рамке, увы; одна повесть дипломатично посвящена Вере Федоровне Пановой) был все же рассказ, отличный от других фронтовых историй. Написан он был откровенно несамостоятельно, нарочито следуя всем особенностям стиля автора “Войны и мира”, но это оправдывалось предметом: описанием танковой атаки, в которой только военная техника отличала бой от сражения под Аустерлицем. Подражание перу Толстого было настолько явным, что это сработало как литературный прием! Сработало и другое: он там был.
Силу этого обстоятельства я понял значительно позже, сам побывав в моравском городишке Славков. А это и был раньше Аустерлиц. Сверху, от так называемой Могилы Миру, то есть памятника, высившегося в обзорном месте у деревушки Праце (я моментально перевел название на русский как “село Работно” да так и запомнил), виднелись склоны холмов с полями угодий, рощицы в ложбинах, — всё как на ладони, хоть опять нагоняй туда конницу, ощетинивай штыками редуты, наполняй воздух облачками разрывов, поливай все это кровушкой. Стела Могилы с крестообразным завершением и четырьмя опорными фигурами как раз и отдавала военные почести на трех языках из четырех — французском, немецком и чешском — погибшим солдатам: своим, союзным и вражеским. А на русском языке — только своим. Вот вам и рыцарство!
Тогда у Кирилла собралось сразу три литературных компании: наша с Рейном и Найманом, ереминско-виноградовская и “взрослая”, собственно косцинская. Это был кругловато-заурядной внешности Валентин Пикуль, которому оставалось еще года два до того, как он станет самым читаемым романистом на Руси, да фантаст Север Гансовский с выражением задумчивой обиды на полнеющем, но еще тонком лице — это он впоследствии “сдаст” хлебосольного друга в КГБ. Поэты читали стихи, прозаикам оставалось лишь поджимать губы.
— Надо писать, как Кай Валерий Катулл, — вдруг заявил Пикуль.
— Как Валерий Тур? Москвич?
— Нет, не москвич, а римлянин. И даже весьма древний. — И он четко и с удовольствием прочитал наизусть стихотворение “К Лесбии”.
— У теперешнего народа кишка тонка так писать! — заключил Косцинский.
Во время венгерских событий его квартира напоминала штаб — если не сопротивления, то интенсивного сочувствия: звучали радиоголоса, на столе были разложены карты Европы. Кирилл был язвителен и азартен, видимо, и тут сказывался эффект былого присутствия: он видел не карту, а местность. Разворот Дуная, мост, подъем на Пешт, раскинувшаяся внизу Буда — и “наши”, то есть хрущевские, танки. В ту пору я к нему заходил, чтобы узнать, “что слышно из Будапешта”, либо же самому сообщить что-нибудь вроде: “Имре Надь арестован, конвоирован в Болгарию”.
Когда я все-таки повел к Косцинскому Генриха, перед самой дверью меня осенило: я, может быть, веду к нему стукача. Но дверь уже открывалась. Что ж теперь делать? На полках кричаще выделялись белогвардейские дневники и воспоминания, это была гордость его коллекции, бледным шрифтом на папиросной бумаге пучился явный самиздат, всюду пестрели корешки нелегальщины.

Автор этих воспоминаний - один из ленинградских поэтов круга Анны Ахматовой, в который кроме него входили Иосиф Бродский, Анатолий Найман и Евгений Рейн. К семидесятым годам, о них идёт речь в книге, эта группа уже распалась, но рассказчик, по-прежнему неофициальный поэт, всё ещё стремится к признанию и, не желая поступиться внутренней свободой, старается выработать свою литературную стратегию. В новой книге Дмитрий Бобышев рассказывает о встречах с друзьями и современниками - поэтами андеграунда, художниками-нонконформистами, политическими диссидентами, известными красавицами того времени..
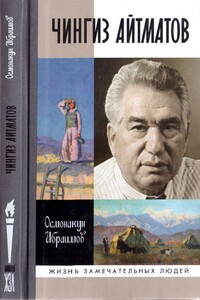
Чингиз Торекулович Айтматов — писатель, ставший классиком ещё при жизни. Одинаково хорошо зная русский и киргизский языки, он оба считал родными, отличаясь уникальным талантом — универсализмом писательского слога. Изведав и хвалу, и хулу, в годы зенита своей славы Айтматов воспринимался как жемчужина в короне огромной многонациональной советской державы. Он оставил своим читателям уникальное наследие, и его ещё долго будут вспоминать как пример истинной приверженности общечеловеческим ценностям.

Книга содержит воспоминания Т. С. Ступниковой, которая работала синхронным переводчиком на Нюрнбергском процессе и была непосредственной свидетельницей этого уникального события. Книга написана живо и остро, содержит бесценные факты, которые невозможно почерпнуть из официальных документов и хроник, и будет, несомненно, интересна как профессиональным историкам, так и самой широкой читательской аудитории.
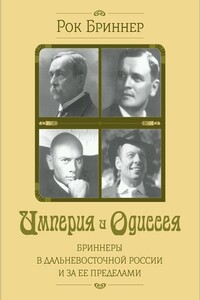
Для нескольких поколений россиян существовал лишь один Бриннер – Юл, звезда Голливуда, Король Сиама, Дмитрий Карамазов, Тарас Бульба и вожак Великолепной Семерки. Многие дальневосточники знают еще одного Бринера – Жюля, промышленника, застройщика, одного из отцов Владивостока и основателя Дальнегорска. Эта книга впервые знакомит нас с более чем полуторавековой одиссеей четырех поколений Бриннеров – Жюля, Бориса, Юла и Рока, – и с историей империй, которые каждый из них так или иначе пытался выстроить.

Вячеслав Манучаров – заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино, педагог, а также неизменный ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Книга Вячеслава – это его личная и откровенная история о себе, о программе «Эмпатия Манучи» и, конечно же, о ее героях – звездах отечественного кинотеатра и шоу-бизнеса. Книга, где каждый гость снимает маску публичности, открывая подробности своей истории человека, фигура которого стоит за успехом и признанием. В книге также вы найдете историю создания программы, секреты съемок и материалы, не вошедшие в эфир. На страницах вас ждет магия. Магия эмпатии Манучи. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
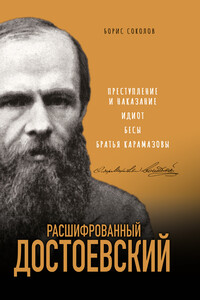
Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.
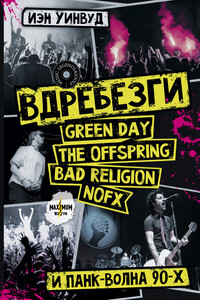
Большинство книг, статей и документальных фильмов, посвященных панку, рассказывают о его расцвете в 70-х годах – и мало кто рассказывает о его возрождении в 90-х. Иэн Уинвуд впервые подробно описывает изменения в музыкальной культуре того времени, отошедшей от гранжа к тому, что панки первого поколения называют пост-панком, нью-вейвом – вообще чем угодно, только не настоящей панк-музыкой. Под обложкой этой книги собраны свидетельства ключевых участников этого движения 90-х: Green Day, The Offspring, NOF X, Rancid, Bad Religion, Social Distortion и других групп.