Я твой бессменный арестант - [72]
На линейке голопопым ослушником вталкивался я в середину строя, втягивал живот и зажимал ладошкой холодную, едва приметную пипку. Красуешься на весь белый свет, шныргаешь затравленно зенками, — скорей бы в столовку, за столом все не так конфузливо и открыто. А из малышовой группы лезет наивный девчачий нос, зыркают то ли насмешливо, то ли недоуменно синие глазки. От жгучей стыдобушки подмывает из последней шкуры выскочить. Линейка застаивается, Зиночка не спешит, не телится. Поучает старосту, вещает что-то, как поп с амвона. Пообвыкла, голенький доходяга ее не смущает, а возможно тешится назло.
Мотанешь линейку, останешься без обеда. Собственное достоинство или голод — выбирай! Попробуй не сломаться! Деваться некуда, нужно терпеть. Бегут дни, смотреть по сторонам отвыкаешь, но давящая боль позора каждый раз пылает свежим ожогом, внутренняя муторность не притупляется. Даже после отбытия наказания кажется, что все воспринимают тебя только в голом обличии.
Со временем костлявая, бледно-синюшная фигурка падшего ангела становится отличительной приметой группы. Бывало, и две-три голых спины посверкивали среди серых, казенных рубах.
Помнится, повзрослел я за лето. Нагулять тела не удалось, но удлинился несуразно и догнал ростом многих ребят постарше, выделяясь лишь непомерной худобой.
27
Мирные будни
В темной безоконной кладовке оборудовали сушилку. Раз в неделю, навьюченные мокрыми матрасами, штрафники шествовали туда, как сквозь строй, мимо взрослых и детей, готовые провалиться от унижения и позора. Интимная неприятность обернулась, по воле милосердия, срамотой, похлеще стояния нагишом на линейке. Чудилось, что нам в спины шепчут брезгливо:
— Ссули гороховые!
Вынужденный постоянно напоминать окружающим о своей подмоченной репутации, я совсем было сник, обреченно и мнительно размышляя о будущем. Неожиданное избавление пришло в образе скрюченной и сморщенной старушки-врача. Назначенное ею зелье по-видимому было настояно на змеином яде с дустом, горчицей и перцем. От него все нутро рвалось наружу. В глубине души я сомневался в возможности полного исцеления, но — одно к одному, хуже не будет — решил перестрадать и вылакал целую чекушку прописанной отравы. И свершилось чудо! Хворь ушла. С трудом верилось в столь простое и быстрое исцеление от напасти, принесшей столько неприятностей.
Как прошел второй год в приемнике? Наверное наша маята немногим отличалась от жизни вольных детей послевоенных лет. Мы не учились, и поэтому досуга — хоть отбавляй! Но дни чем-то полнились.
Нам не доставало так многого, что имевшееся можно и перечислить. Вспоминается всякая ерунда вроде маялки и фантиков, чехарды и шашек. Собственно шашки нас занимали мало. Больше нравились поддавки или волки и овцы. Знали мы и несколько видов игры в уголки; однако всем им предпочитали бои в щелчки. Пулять шашки можно было до бесконечности, отщелкивая ненужные, пустые денечки. Но, как и прежде, комплект шашек был единственным, что иногда приводило к ссорам.
С холодами, как эпидемия, разразилось увлечение маялкой. Маялка представляла собой клок овчины с заячий хвостик, к которому цеплялось сплющенное грузило-свинчатка с полтину. Маялкой жонглировали, как футбольным мячом.
Приобщить нас к игре пытался еще Никола, владевший виртуозным искусством безостановочного подкидывания маялки и правой ногой, и левой, и тыльной стороной ступни, и внешней. Вытанцовывал враскачку до одурения. Когда был в ударе, нагонял сотни очков без передышки и даже настропалился в трюкачестве: перебрасывал маялку через голову. Играть Никола соглашался только на пайки и партнеров себе не приискал, поскольку перещеголять его никто не мог. Теперь любой из нас имел возможность подрыгать ногами вволю. Поднаторели многие, но равного по мастерству Николе виртуоза не вытренеровали.
Нескончаемый полет маялки, как бы привязанной невидимой нитью или притягиваемой магнитом к ботинкам самых заядлых и сноровистых игроков, привлекал зрителей со всех групп. В одном из углов зала вокруг топтавшегося с маялкой пацана всегда табунились и гомонили болельщики.
— Доиграетесь! Килу намаете, оболтусы несчастные! — иногда ворчали воспитатели, по-видимому довольные тем, что мы находим себе хоть какое-нибудь занятие.
С маялкой и дни ковыляли вприпрыжку. Вышибешь тысчонку очков, глядишь, скоротал денек.
Порядки ДПР порасхлябались. Двери загонов стояли распахнутыми настежь, мы болтались из группы в зал, как неприкаянные. Да и не уместиться было всей старшей группе в одной комнате. Бестолковой разноголосицей полнился дом.
По-прежнему превыше всего ценился хлеб. С порога столовой я хватал взглядом свою порцию, — вот бы горбушка, хрустящая, с черной запекшейся корочкой. О ней мечталось, как о награде. Удача порождала такое удовлетворение, что на время пропадало вечно тлеющее голодное недовольство.
Мизерный, на пару укусов пластик непропеченного, ноздреватого хлеба с эфемерным довеском лежал рядом с моей мисочкой. По ее зашкрябанному донышку тонким слоем размазалась липучая перловая каша. Главное — хлеб; его жалкий вид вызывал обиду и вымученное каждодневним опытом предвидение: после еды голод займется жгучим огоньком и уже не потухнет.

Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) — происходил из обрусевших шведов и родился в семье генерала. Учился во французском пансионе в Москве. С 1800 года служил в разных ведомствах министерств иностранных дел, внутренних дел, финансов. Вице-губернатор Бессарабии (1824–26), градоначальник Керчи (1826–28), с 1829 года — директор Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий. В 1840 году вышел в отставку в чине тайного советника и жил попеременно в Москве и Петербурге. Множество исторических лиц прошло перед Вигелем.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.
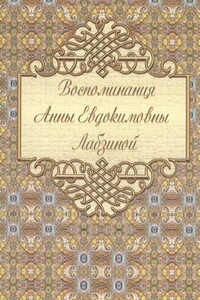
Анна Евдокимовна Лабзина - дочь надворного советника Евдокима Яковлевича Яковлева, во втором браке замужем за А.Ф.Лабзиным. основателем масонской ложи и вице-президентом Академии художеств. В своих воспоминаниях она откровенно и бесхитростно описывает картину деревенского быта небогатой средней дворянской семьи, обрисовывает свою внутреннюю жизнь, останавливаясь преимущественно на изложении своих и чужих рассуждений. В книге приведены также выдержки из дневника А.Е.Лабзиной 1818 года. С бытовой точки зрения ее воспоминания ценны как памятник давно минувшей эпохи, как материал для истории русской культуры середины XVIII века.

Граф Геннинг Фридрих фон-Бассевич (1680–1749) в продолжении целого ряда лет имел большое влияние на политические дела Севера, что давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн.Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)