Я твой бессменный арестант - [35]
— Толик сильнее Жиденка! — крикнул Горбатый, подмигивая обоими глазами приятелям. — Слабо стыкнуться!
Толик смущенно потупился и заскучал: причин для отказа или слез не находилось, но улизнуть из группы его так и подмывало.
— А ну, Жид, отвесь ему плюху! — осклабился вспухшим ртом Никола.
— Вперед, Толик, вмажь ему в харю! — подхватил Педя.
— Не дрейфь, еврей! Рви ему ноздри!
Пришла пора и нам с Толиком выяснить отношения, разделить между собой ступени у самого подножья пирамиды. Сердце болезненно сжалось, было совестно обижать приятеля, без причины ссориться с безобидным мальчишкой. Как избежать стычки и с достоинством отступить, если живая изгородь уже раздалась по сторонам и ты с соперником в ее середине?
— Не нужно, мы вам ничего плохого не сделали, — невразумительно залепетал я.
Никола сгреб нас за шкирки и столкнул лбами, как баранов. Заслонившись, мы невольно задели друг друга и сначала слегка, потом сильнее, размахались не на шутку.
После я долго ощущал зароненную в душу неприязнь, скорее всего к самому себе, хотя вроде бы примирились мы быстро и через денек, другой вместе играли в фантики. Но прежнего доверия не испытывали, и причиной всему была моя неодолимая серьезность и злопамятность.
Я безнадежно утвердился в самом подножье пирамиды. Еврей — и никаких гвоздей! Одним словом все сказано, все определено. Кому нужно возиться с евреем?
Безнадежность упрощала существование, но не облегчала. Рассчитывать на помощь или покровительство не приходилось. Заступничество за неблагонадежного могло вызвать подозрение и чувство исконной брезгливости. Снова и снова, острее и глубже ощущал я свою душевную чужеродность.
Клевали меня попросту, как записного изгоя. Нападения приходилось ждать в любой момент. Попробуй, повернись спиной к группе, — тут же летишь вверх тормашками через присевшего сзади шпендрика. Или врежут пендель под зад, дескать «по натяжке бить не грех, полагается для всех». От одного моего заморенного вида заправил и их свиту коробило, и меня редко оставляли без въедливого внимания.
Невозможность вмешаться в свою судьбу, что-то изменить, постоять за себя, угнетала сознание, изгоняла обычные мальчишеские мысли и желания. Представлялось, что я слаб, как девочка, и должен был родиться девочкой. Случайно оказался мальчиком, потому и квелый такой.
Эта ущербность нагнеталась постоянно слышимым восхвалением здоровенных, широкоплечих громил, которым нет равных в силе и ловкости. И казалось, что мои плечи отсутствуют вообще, скошены, как у курицы. Чувство преклонения перед сильным, подчиненности подавляло искренность даже перед самим собой.
Происходящее в группе угнетало и удручало меня. Я боялся спрашивть или даже думать о том, кого обирают, кого поборы еще не коснулись? Такие знания могли быть легко истолкованы против меня. Да и не все ли равно? Пусть грабастают хоть со всего света, только бы мне доставался хлеб. Пусть лаются и грызутся до озверения, только бы на меня не сыпались пинки и брань.
Главный мздоимец, Горбатый, восседал в центре опутавшей нас паутины и подергивал за ниточки свои жертвы. Тотальный сбор, учет и контроль он поставил со щепетильностью и размахом завзятого бухгалтера-крючкотворца. Он любил подолгу мараковать над потертыми на сгибах листочками с хитрой приходно-расходной кабалистикой, где за каждой кличкой, нацарапанной грязно-фиолетовыми каракулями, тянулись длинные хвосты загогулин — цифири нарастающих долгов. Горбатый вглядывался в заветные письмена, и гримаса довольства сглаживала морщины его лица; шевеля губами и прикидывая на черновике, он дотошно исчислял набежавшие куски, отмечал сроки, принимал во внимание покорность, — все шло в общий котел прибыльного дела вожаков.
Ему особенно нравилось поигрывать в честность, хотя никто никакого отчета или оправдания от него не требовал. Словно гипнотизируя, Горбатый давил жестким взглядом свою паству, перебегал глазами с одного должника на другого, на момент задерживаясь на каждом, возможно вынося про себя приговор и решая, кого следует подстегнуть окриком, а кого наказать кулаком. Становилось понятно, что он и без писанины помнит назубок все и обо всех, а меркантильные подсчеты лишь доставляют ему удовольствие. И каждый должник, не поднимая головы, кожей чувствовал неусыпное внимание Горбатого.
— Гони пайку! — кричал он растерянному, поникшему Толику.
— Очень рубать хотелось, не бей, не надо, — с обескураживающей наивностью молил Толик и заслонялся в испуге руками.
— Должен, гони! — неумолимо напирал Горбатый, шлепая ладонью по плечу мальчишке и тут же поддавая запястьем под подбородок.
— Завтра вынесу, сукой буду, — лязгнув зубами, плаксиво мямлил Толик, морщился и уползал за спины ребят.
— Зарекалась ворона… И вчера финтил: завтра, завтра, — распалялся Горбатый, и, подражая Николе, сек худенькую повинную шею. — На малолетство не надейся, не проймешь!
Толик тоненько блеял. Он хорошо знал, что обещаниями никого не разжалобить, но каждый раз заводил ту же карусель с просьбами и посулами. У меня так не получалось. Меня воспринимали как взрослого, без скидок на недомыслие.

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
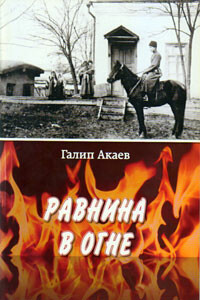
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.