Я твой бессменный арестант - [28]
— Скоро.
— Завтра?
— Нет, не завтра.
— Через много, много дней?
— Да, через много, много дней.
— Через сколько?
— Не знаю, спи.
— В детдоме дадут картошки? Хоть одну, малюсенькую-премалюсенькую?
— Отстань, а то набью!
— За что?
— За то! Не думай о еде, станет легче.
— Попроси картошечки, — брат обиженно поджал дрожащую верхнюю губу и выпятил нижнюю, готовясь заплакать.
— Крепись, — одернул я брата. — Слезы не помогут.
Нужно думать о другом, — убеждал я себя, но мысли о завтрашнем дне, когда сам, своими руками отдам свою кровную пайку, неодолимы. Видимо придется всегда засыпать с выжигающим нутро голодом.
С мамой было так хорошо! Воспоминания приносили новую боль. Прошлое казалось погребенным глубоко, глубоко под грузом многих лет. Туда, в невозвратную даль меня все чаще сносила память, хранившая такое, о чем я даже не подозревал.
Мама редко ласкала нас, но, приходя поздно с работы, опускалась на колени перед заснувшим братом, прижималась губами к его щеке и стриженым волосенкам, целовала бережно, боясь разбудить. Какие мама готовила супы из картошки! Сварит, покапает рыбьего жира, прописанного нам врачем, и плавают на поверхности янтарные крапинки и суп не кажется постным.
Воспоминания доконают меня. Нужно спать.
Нас уплотняли и уплотняли. К Новому Году наплыв детей превзошел все мыслимые нормы. Нас укладывали спать по трое на койке. В группах на ночь ставили матерчатые раскладушки. Одинокими песчинками несло к нам нечаянно выживших детей, извергнутых пастью кровавой мясорубки.
Каждый новый сосед по столу уменьшал шансы вырваться из приемика. Но об этом не думалось. Все воспринималось как оно есть, без ропота, с робкой надеждой. К окошку не пробиться, — вот что заботило, вот что было понятно.
Кто-то из малышей накапал начальнице о ежевечернем буйстве. Предъявил раскровавленный нос, поплакался о том, что мешают спать. Охрану мелюзги вменили в обязанность Марухе. Угрозой увольнения и выселения ее обязали не пускать никого к малолеткам. Нас, ребят из старшей группы, прогнали в мужскую спальню, насквозь продуваемую всеми ветрами. Пронзительный холод властвовал здесь безраздельно, легко проникал сквозь закупоренные окна, шутя одолевал жалкие волны тепла, исходящие от печки.
Вечера надвигались как пытки. Разгулье дымилось здесь допоздна, как в полночном шалмане, и первые недели в теплой спальне казались теперь вполне сносными.
Моим соседом по постели стал Царь. Наша койка стояла у открытого стенного проема, выходящего в прихожую. Койка была не на месте, на нее натыкались и входящие, и выходяшие. Выпуклости свалявшегося ватного матраса торчали сквозь широкие дыры гамака пружинной сетки, уцелевшей едва ли наполовину. По этой причине нам не подселили третьего.
Царь орошал по ночам постель. Он очень деликатно жался к самому краю койки, но подтекало и под меня. И неожиданно, без внятных причин, эта беда пристала и ко мне. Вскоре недуг ночного недержания, как эпидемия, охватил добрую половину ребят. Прудил под себя и Горбатый, и спавший с ним Педя.
К утру спальня выстывала так сильно, что корочка льда схватывала потеки на полу под койками. Мы скрючивались улитками, поджимали колени к подбородкам, натягивали на уши тонкие байковые одеяльца, а ночью скатывались в объятия друг другу. Проснувшись, не разбирали, кто подпустил?
Хорошо, что спим врозь, — думал я о брате. Не хватало и ему этой напасти!
Днем Горбатый и Педя меняли свою измоченную постель на сухую с любой койки. Со временем все матрасы задубели и отличались лишь различной степенью влажности. От них разило мертвящим, выедающим глаза и ноздри зловонием. Желтые, не менее вонючие простыни были жестки как накрахмаленные.
Отменная вонь спальни хлестала по носу входящего, и воспитатели не любили здесь задерживаться. Понаблюдают за укладыванием или пробуждением, хлебанут глоток, другой густых, почти осязаемых ароматов непросохших постелей и смердящих испарений параши и, придерживая дыхание и прикрывая лица, уматывают поскорее.
— Во душегубка! — гримасничал Горбатый — Аж рыла воротят!
Принюхавшись, мы не испытывали страдательных эмоций. К тому же пацаны курили до тошноты, и табачный дым отчасти перебивал неистребимый настой закисающей мочи. Словом, отнюхай свое и молчи, спи; зябнуть и мокнуть во сне не так мучительно, как наяву.
Писунов развелось во множестве, а скопом к чему не притерпишься! И особых душевных переживаний ночной грешок не доставлял. Мочишься ты или нет, сидят твои родители или погибли в бою, огрубелая и жестокая у тебя душа или впечатлительная и ранимая, — никого не волновало. Мы предстали друг перед другом душевно обнаженными, лишенными поддержки домашнего мира с его ежедневной мерой хорошего и плохого, горестного и радостного.
10
В опечатанной квартире
Слабосильная шушера старшей группы несла хлебушек с обеда, пробавляясь гороховой баландой да жиденькой перловкой. А Толик как-то умудрялся не попасть на крючок. На окрики Горбатого он недоуменно хлопал длинными ресницами, выказывая постоянную готовностъ сорваться в громкий плач. И срывался при любом угрожющем окрике или подозрительных попытках заставить его играть на пайку. Толик умел прикидываться смертельно запуганным и начинал ныть при любом обращении к нему Николы, еще не зная причины этого обращения. Возможно, ему и раньше приходилось добиваться своего плачем; в приемнике он усовершенствовал это умение, держал поток слез наготове и успевал пустить его вовремя. Мог он и увильнуть от опасных общений, выскользнув из группы. Горбатый не очень наседал на Толика, видимо подозревая, что тот по малолетству, нарочно или невзначай, может проговориться и выдать вымогателей. Проходили дни, а Толик уписывал свою пайку за столом. Ему везло до поры.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
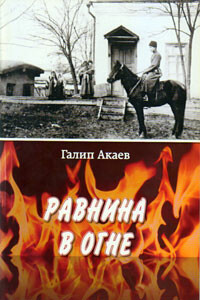
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Пролетариат России, под руководством большевистской партии, во главе с ее гениальным вождем великим Лениным в октябре 1917 года совершил героический подвиг, освободив от эксплуатации и гнета капитала весь многонациональный народ нашей Родины. Взоры трудящихся устремляются к героической эпопее Октябрьской революции, к славным делам ее участников.Наряду с документами, ценным историческим материалом являются воспоминания старых большевиков. Они раскрывают конкретные, очень важные детали прошлого, наполняют нашу историческую литературу горячим дыханием эпохи, духом живой жизни, способствуют более обстоятельному и глубокому изучению героической борьбы Коммунистической партии за интересы народа.В настоящий сборник вошли воспоминания активных участников Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.