«Я сказал: вы — боги…» - [7]
Первоначально «богочеловечество» существовало только как проповедь и даже более того, как особое эмоциональное восприятие ситуации, в которой находились Маликов и его соратники. Когда Маликов «загорался» (а это случалось каждый раз, когда его готовы были слушать), он говорил легко и свободно, образно и чрезвычайно эмоционально. При этом возникал эффект «размывания реальности»: слушатели забывали, где они находятся, и что происходит вокруг них.
В.Г. Короленко, слушавший Маликова на излете «богочеловечества», через шесть лет после описываемых событий, сохранил это впечатления высокого накала его речей:
«Маликов был в своем трансе и, по обыкновению весь горя и пылая, говорил о могуществе чуда. (…) Маликова в таком состоянии смутить было трудно. Он бурно несся дальше. (…) Он весь пылал, как тургеневский оратор-сектант, его настроение, видимо, передавалось слушателям» [41,172].
Чрезвычайно эмоциональны и письма Маликова. Чувствуется, что подчас не автор владеет словом, а слово подчиняет себе автора, ведет его, заставляет повторяться, вводить в письменный текст междометия, убегать вперед, бросая недовысказанную мысль. И вновь возвращаться к брошенной фразе до тех пор, пока текст не становится окончательно неразборчивым из-за того, что рука не успевает за потоком мыслей и образов. Фраза Маликова, состоящая из восклицаний, повторов, риторических вопросов, строится таким образом, что и через сто лет читателю хочется кивнуть в удачных местах его письменной речи. В устной же речи его союзниками были и убеждающий жест и пылающее энтузиазмом лицо, и устремленные на собеседника глаза и напор образов, не позволяющих слушателю остановиться и обдумать сказанное. Настроение передавалось лучше, чем идеи, отчасти еще не додуманные, отчасти путанные и противоречивые. Недаром С.Ф. Ковалик и A.C. Пругавин относили успех проповедей Маликова за счет его таланта, увлеченности, «страстного энтузиазма» [36,105; 66,166].
Когда же гипнотическое действие слов Маликова проходило, первой реакцией слышавших было неприятие. Идеи его коренным образом расходились с тем мировоззрением, которое для участника студенческих и революционных кружков, считалось обязательным и называлось в литературе «направлением». Слушатели Маликова, очарованные его пылкой речью, в большинстве своем не сразу понимали, что же именно он им втолковывает. Так К.С. Пругавиной, ставшей вскоре ярой сторонницей Маликова, а затем и его женой, первоначально показалось «очень странным» все, что происходило в Орле [12,72]. Л.Е.
Оболенский, услышав одну из первых проповедей, заявил о «необходимости борьбы с этим опасным течением» [29,171]. Правда, Маликову хватило нескольких дней, чтобы убедить в своей правоте и Л.Е. Оболенского, и многих других.
Но еще раньше началось то, что Е. Дубенская определила емким словом «паломничество», а С.Ф. Ковалик описал так:
«К нему (Маликову — К. С.) приезжали интеллигенты, не только посторонние движению, но и пристрастившиеся уже к революции — словом все те, в сердцах которых копошился еще червь сомнения (…). Кроме настоящих последователей Маликова можно было встретить в разных кружках лиц, более или менее ему сочувствующих» [36,105].
Первой, после письма, а затем и телеграммы Маликова, в Орел приехала К.С. Пругавина — «в Вербное воскресенье или понедельник на страстной неделе» [12,72]. Затем, по ее просьбе, на Пасху, приехал из Петербурга студент медико-хирургической академии Воронцов и, вернувшись из Орла, привез товарищам изложение теории А.К. Маликова. Этот «студент Воронцов», по всей видимости, не кто иной, как знаменитый В.В. -Василий Павлович Воронцов, в будущем — идеолог «либерального народничества» 1880-х гг. Он учился в медико-хирургической академии с 1868 по 1873 г. и был близок к «чайковцам» [112,457].
По словам другого студента МХА (Я.А. Ломоносова), «тетрадь с изложением новой системы была листов 5–6 без заглавия с эпиграфом: «Имеющий уши да услышит» [12,72]. Л.Е. Оболенский показывал на следствии, что такого рода тетрадь действительно существовала:
«У Маликова была программа этого сочинения, которой он был недоволен, потому что она составлялась в первое время его новых воззрений, когда они так сильно поразили его самого, что он был в возбужденном состоянии и не спал несколько ночей» [12,51].
При аресте эта тетрадь не была обнаружена. Естественно предположить, что именно ее увез Воронцов в Петербург. По свидетельству того же Я.А. Ломоносова, большинство из знакомившихся с ней были недовольны неясностью изложения, отсутствием доказательств. Скорее всего, именно этим обстоятельством был вызван скорый приезд в Орел еще одного студента и члена того же кружка — Махаева. Два брата Махаевых: Василий и Николай жили в то время в Петербурге. Оба они учились в Орловской гимназии и имели хорошие контакты с членами различных «кружков» как в Орле, так и в Петербурге. Но только Василий учился в МХА (его брат Николай не получил свидетельства об окончании гимназии) Логично предположить, что именно Василий ездил в Орел с поручением от своих товарищей из МХА, познакомиться с новым учением. Он беседовал с Маликовым «часа три» [15-3,278] а затем, по просьбе товарищей составил 37 тезисов «новой религии» для того. Эти тезисы остались самым обширным изложением теории «богочеловечества», каким оно было в начале его появления.
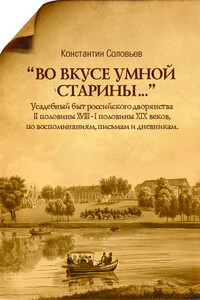
Первый раз, когда открываешь эту книгу, бросается в глаза выражение «во вкусе».Сразу возникает вопрос — в каком таком «вкусе» и почему «умной старины»?Оказалось, что это весьма удачное название для книги, в которой рассказывается о том, как организовывали свой домашний быт люди, жившие в нашей стране в позапрошлом веке. Точнее сказать, речь в книге идет о конце XVIII — начале XIX веков.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.