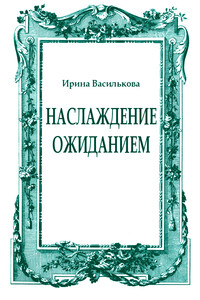«Я — Кристина Россетти» - [2]
Годы спустя новая — лучше первой — перспектива семейного счастья замаячила перед Кристиной. Ей сделал предложение Чарльз Коули, но — увы! — этот эрудированный господин в застегнутом не на те пуговицы платье, который перевел для ирокезов Евангелие и справлялся у дам на званых вечерах, знают ли они, что такое Гольфстрим, а в качестве подарка преподнес Кристине заспиртованную полихету колючую («морскую мышь») в баночке, — этот господин, разумеется, был вольнодумцем. Ему, как и Джеймсу, Кристина отказала. И пусть, по ее признанию, «не было женщины, которая любила бы мужчину сильнее», стать женой скептика она не могла. Ей, обожавшей «курносых и мохнатых» — вомбатов, жаб и всех мышей на Земле, называвшей Чарльза «мой канюк бескрылый» и «мой любимый крот», невозможно было разрешить кротам, канюкам, мышам или чарльзам коули подняться на свои небеса.
В тот черный ящик можно глядеть долго. Нет конца странностям, причудам и курьезам, заключенным в нем. Но стоит только задуматься, какую трещинку этого ящика мы еще не исследовали, нам даст отпор сама Кристина Россетти. Представьте себе, что рыба, непринужденной грацией которой мы любуемся, заплывает в заросли тростника или нарезает круги вокруг камня, вдруг, встретив на своем пути стекло, разбивает его. Подобное случилось во время чаепития у миссис Тэббс — в числе гостей там оказалась Кристина Россетти. Что послужило поводом, мы в точности не знаем. Возможно, кто-то в легковесно-небрежном тоне, который пристал подобным чаепитиям, отозвался о поэзии или поэтах. Как бы там ни было, к удивлению собравшихся, маленькая женщина в черном платье поднялась с кресла, вышла на середину комнаты и, торжественно объявив всем «Я — Кристина Россетти!» — возвратилась на свое место.
Слова сказаны — стекло на наших глазах разбилось. «Да, — означают эти слова, — я поэт. А вы, делающие вид, будто отмечаете мой юбилей, нисколько не лучше тех, кто пил чай у миссис Тэббс. Вы интересуетесь ничего не значащими подробностями моей жизни, гремите ящиками моего письменного стола, смеетесь над Марией, над мумиями и над моими сердечными делами, а между тем все, что я хотела бы вам о себе рассказать, находится здесь, в этом зеленом томике. Это избранные мои стихи. Купите их за четыре шиллинга и шесть пенсов. Прочитайте», — и она снова усаживается в кресло.
Какие непримиримые идеалисты эти поэты! Поэзия, они утверждают, не имеет ничего общего с жизнью. Мумии и вомбаты, Хэлем-стрит и омнибусы, Джеймс Коллинз и Чарльз Коули, полихета колючая, миссис Тэббс, Торрингтон-сквер и Эйнсли-парк — все это, включая религиозные догмы, весьма относительно, не имеет ценности, мимолетно, эфемерно. Существует только Поэзия, вопрос лишь в том, хороша она или плоха. И ответить на него возможно не сразу, а лишь по прошествии времени. Не так уж много путного сказано о Поэзии с тех самых пор, как она существует. Современники, как правило, ошибаются в своих оценках. Почти все стихотворения, включенные в собрание сочинений Кристины Россетти, были когда-то отвергнуты редакторами. Годовой доход, который она имела от стихов, на протяжении многих лет не превышал десяти фунтов, тогда как книги Джин Инджлоу[1], о которых она отзывалась саркастически, выдержали восемь пожизненных переизданий. Были, разумеется, в окружении Кристины Россетти поэты и критики, к суждениям которых можно было и прислушаться, но даже они подходили к стихам Кристины с весьма различной меркой.
«Ничего лучше в поэзии создано не было!» — восклицает об этих стихах Суинберн, а относительно «Новогоднего гимна» говорит, что он жжет, как огонь, и проливается лучами солнечного света, звучит, как шум морских волн со всеми их аккордами и каденциями, недоступными ни арфе, ни органу, а также отдает многократно усиленным эхом, доносящимся с небес.
За Суинберном дадим высказаться профессору Сейнтсбери[2], который подвергнет всестороннему изучению главное произведение Кристины — поэму «Базар гоблинов» — и сделает вывод, что метр его правильнее всего будет определить как скельтонический, с примесью так называемых дурных стишков, и в котором присутствуют разные стихотворные размеры, известные со времен Спенсера и пришедшие благодаря Чосеру и его последователям на смену деревянному грохоту силлабического стиха. Сейнтсбери обратит наше внимание и на нерегулярность стихотворных строк поэмы, свойственную пиндарическим стихам конца XVII — начала XVIII века, а также безрифменным стихам Фрэнка Сейерса[3] и Мэтью Арнольда.
Выслушаем и уважаемого сэра Уолтера Рэли[4]. «О такой совершенной поэзии невозможно читать лекцию, как невозможно долго говорить о воде, лишенной примесей. Лекции надо читать о поэзии поддельной, застойной или мутной от песка. Единственное, на что я способен, читая совершенные стихи, это плакать».
Что ж, приходится признать, что существуют, по крайней мере, три критические школы. Первая учит вслушиваться в музыкальный рокот поэтических волн, вторая исследует их метр, третья предлагает плакать от восторга. Следование сразу трем школам заведет нас в тупик. Не лучше ли сосредоточиться на самих стихах и описать, пусть второпях и запинаясь, что вы сами ощущаете после их прочтения? В моем случае это: О Кристина Россетти, я должна со стыдом признать, что, хотя знаю многие твои стихи наизусть, я не прочла все твои книги от корки до корки. Я не подражаю тебе в своей литературной работе и ничего не знаю о том, как оттачивалось твое мастерство. Я сомневаюсь даже, оттачивалось ли оно вообще. Ты была из тех поэтов, что послушны лишь инстинкту. Ты смотрела на мир под определенным углом. Ни годы, ни общение с мужчинами, ни чтение книг ни в малейшей степени не поколебали твоей точки зрения. Ты откладывала в сторону книгу, которая не согласовалась с твоей верой, ты избегала людей, которые могли бы пошатнуть ее. Наверное, в этом была своя мудрость. Твои чувства были столь непоколебимы, чисты и сильны, что благодаря им ты создавала стихи, ласкающие ухо, как мелодии Моцарта или напевы Глюка. И при всей своей гармонии твои стихи были сложны: в звуках твоей арфы слышалось одновременное звучание нескольких струн. Как все пишущие инстинктивно, ты остро ощущала красоту окружающего мира. Твои стихи были наполнены «золотой пылью», «огоньками сладчайшей герани», твой глаз подмечал и «бархатные макушки» камыша, и «стальные доспехи» ящерицы. Сама того не сознавая, ты воспринимала мир с чувственностью, достойной прерафаэлитов и несвойственной той англо-католичке, какой ты была. Впрочем, ты расплатилась с той католичкой сполна постоянством и печалью своей музы. Та сила, с какой давила на тебя вера, не давала упорхнуть ни одной из твоих песен. Своей цельностью твой литературный труд обязан, должно быть, этой вере. Печаль, сквозившая в твоих стихах, обязана ей же: твой Бог был жестоким Богом, твой венец был терновым. Как только ты начинала славить красоту, что открывалась твоему глазу, твой разум напоминал тебе, что красота тщетна и преходяща. Смерть, страх забвения, желание отдохнуть накатывали на твои песни темной волной. Однако в этих песнях мы слышим и радостный смех, и шум дождя, и топоток звериных лап, и гортанные выкрики грачей, и сопенье-пыхтенье-хрюканье «курносых и мохнатых». Ты вовсе не была святой. Ты сидела, вытянув ноги, ты щелкала кого-то по носу. Тебе ненавистны были пустословие и отговорки. Ты была скромна и вместе с тем решительна, ты не сомневалась ни в своем даре, ни в правильности своего видения. Твердой рукой ты правила рисунок своих стихов, придирчивым ухом вслушивалась в их музыку. Ничто несовершенное, лишнее или неуместное не портило впечатления от твоей работы. Словом, ты была художником. И потому, даже когда ты бренчала колокольчиками просто так, чтобы отвлечься, тебя навещала пламенная гостья, благодаря которой слова в твоих стихотворных строчках плавились, становясь единым целым, так что выудить их оттуда не сумела бы ничья рука.
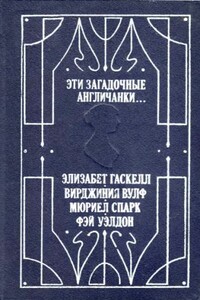
Русский перевод эссе Вирджинии Вулф о женщинах в литературе — "A Rome of One's Own". В основу эссе легли два доклада, с которыми писательница выступила в октябре 1928 года перед студентками английских колледжей.
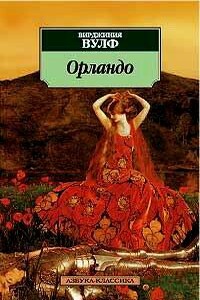
Вирджиния Вулф – признанный классик европейской литературы ХХ века. Ее романы «Комната Джейкоба», «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», «Волны» выдержали множество переизданий. О ней написаны десятки книг, тысячи статей. В настоящем издании вниманию читателей предлагается роман «Орландо», необычный даже для самой В. Вулф. О чем эта книга, получившая всемирную известность благодаря блестящей экранизации? Романтизированная биография автора? Фантазия? Пародия? Все вместе и не только. Эта книга о безжалостном времени, о неповторимости мгновения, о томительных странностях любви, о смерти и превратностях судьбы.
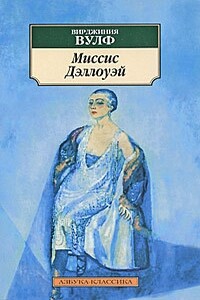
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
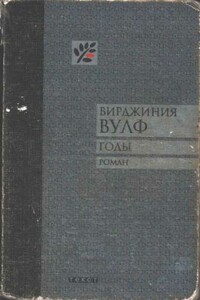
Вирджиния Вулф (1882–1941) — всемирно известная английская писательница, критик и теоретик модернизма. Роман «Годы» — одно из самых значительных ее произведений. Действие разворачивается на протяжении пятидесяти с лишним лет, с 1880 до середины тридцатых годов XX века. В центре повествования — семейство Парджитеров: полковник Эйбел Парджитер, его жена, любовница, семеро детей, их жены, мужья, многочисленные родственники. Конец викторианской эпохи — ломаются традиции британской жизни. Автор пристально наблюдает ход времени и человека во времени: детство, молодость, зрелость, старость…На русском языке издается впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
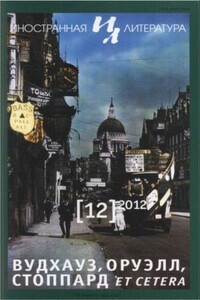
Герой рассказа Адама Торпа (1956) «Наемный солдат» из раза в раз спьяну признается, что «хладнокровно убил человека». Перевод Сергея Ильина.
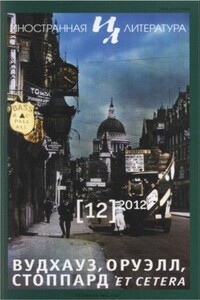
«Этажом выше» Хилари Мантел — рассказ с «чертовщиной», что не редкость в историях из жизни «маленьких людей». Перевод Е. Доброхотовой-Майковой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
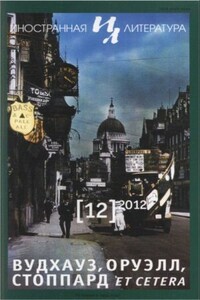
Пьеса (о чем предупреждает автор во вступлении) предполагает активное участие и присутствие на сцене симфонического оркестра. А действие происходит в психиатрической лечебнице для инакомыслящих в СССР.