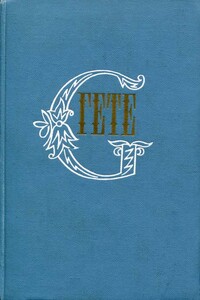Но, вслед за этим первым моментом довольства, следовали другие, носившие уже другой колорит.
Батальон-то, пожалуй, почти весь налицо, да каковы люди в нем? Нет ли тут и инвалидов много, хотя у них и золотые шевроны нашиты около локтей? Вот-то беда, если взаправду так.
Начинаешь вглядываться, различать, пересчитывать и замечаешь, что много лиц побледнело и осунулось, много зубов из челюстей повывалилось, и лбы в морщинах, и тело сгорблено, и руки висят плетями, и ноги не держат, и желудок не варит. Что за напасть такая? Отчего это так? Какие причины сокрушили?
Я давно уже стал замечать, что для наших художников (тоже и, музыкантов) годы между 40 и 50 лет — самые опасные, самые фатальные. В большинстве случаев у других народов 40–50 лет это ни по чем, это считается самыми сильными годами, и тут-то именно люди начинают творить что только могут самого могучего, самого значительного. У нас, напротив, в большинстве случаев (конечно, не всегда) в 40 лет художники уже устали, уже почивают на лаврах, уже норовят как бы заячий тулупчик, да на лежаночке полежать. Примеры у всех налицо. Проэкзаменуйте попристальнее хоть последние 50 лет. И что же? Раскиснув, устав, потягиваясь и позевывая, наш художник хватается за сюжеты из евангелия и за пейзаж. Собственно говоря, говоря безотносительно, ничего нет худого ни в тех, ни в других сюжетах. Всякий художник имеет право делать то, что ему хочется, что ему приятно, никаких законов для выбора сюжетов на свете нет, и никто не может в это дело вмешиваться; из всякого сюжета может выйти прекраснейшая, талантливейшая картина, когда есть при этом в запасе дарование, уменье, горячее стремление, полнота душевного интереса. Но что это такое будет, когда за эти сюжеты берутся только оттого, что устал и что, пожалуй, так легче, или даже просто потому, что надо же, дескать, всего попробовать на своем веку. Тут проку не жди.
И вот так именно и было однажды с Перовым и Крамским, а потом и со многими другими, а в последнее время с Репиным, Поленовым, Мясоедовым, Ярошенко и т. д. Это, как знает хорошо читатель, были все люди очень разнообразного таланта. Одни — люди самого высокого, другие, — гораздо меньшего таланта, но, в сущности, от этого дело не переменялось в результате, так как ни у которого из них не было настоящего влечения и способности к религиозным сюжетам (так как заказные от Академии ученикам Репину и Поленову картины на эти сюжеты, программы, в расчет итти не могут), и, однакоже, несмотря на это, все они много времени и труда потратили на то, чтобы изображать Христа, Иуду и другие евангелические личности. Что — хороши были эскизы и наброски Репина и Поленова на прошлогодней выставке «эскизов и этюдов»? Хороши были также их картины: «Св. Николай», сцена «Блудницы», «Христос над озером», а нынче картины Ярошенко и Мясоедова? Конечно, во всех них не было и тени приближения к действительной задаче, ни по настроению, ни по созданию, ни по сцене, ни по типам, ни по движению и позе. Все это было только старинное, старинное притворство и более ничего, старинное натягивание на себя чужого, вовсе неподходящего кафтана, другими словами — все только старинная Академия, Академия, Академия и более ничего. Иной художник, пожалуй, сказал бы в ответ: «Да ведь неправда же! Я именно был полон своим сюжетом, я от всей души писал его. Я ночей не спал, думал о нем — вот как я притворялся!» — Нет, любезный друг, можно было бы ответить ему, это не так. Мало ли что кажется и, однакоже, не существует в действительности! Иной актер на сцене как будто бы весь горит, и плачет, и мечется, чуть на стену не лезет, все от истинного чувства своего, в которое и сам верит, да иной раз и другие также. А настоящего все-таки тут ничего нет. Чего-то все нехватает. Истинного чувства, истинной наполненности самим делом, истинной искренности, наконец, — и настоящего дарования к своему сюжету.
Мне случилось слышать от иных людей, что две картины нынешней выставки, пожалуй, не столько выражают сюжеты собственно евангельские, сколько служат аллегорией некоторых событий последнего времени у нас. Таким образом, иные мои знакомые уверяли, будто в картине «Иуда» художник хотел представить, как совершается «подкуп» и как люди вовсе не из толпы, а отличающиеся многими замечательными качествами, дают себя подкупить всяческими благами и авантажами. Что ж! Если бы это взаправду так было и если бы художник в самом деле хотел именно это представить — его только надо было бы хвалить, ему сочувствовать и аплодировать. Современно! Кстати! Иуде высчитывают по пальцам и то, и то, и то, и тут же сейчас уж и толстопузенькую копилочку выдвигают вперед, у самых карманов Иуды, «только возьми, батюшка, только возьми, а уж там все хорошо и ладно будет, все подстроим, всему научим!» Тема чудная, так и бьет, так и бьет в нос, и даже лицо у Иуды сделано тут прегадкое, какое, вероятно, всегда бывает у того, кого совращают, а он выслушивает, и как будто немножко гримасу строит, а сам уж совсем готов. Да, да, все это прекрасно; но добрых полемических намерений еще слишком мало, надо уметь справляться с ними и красками, и кистями, и глазами, и руками. Точно так же иные еще уверяли меня, что будто бы и в «Искушении» тоже присутствует полемическая цель, желание изрядно поранить тех, кто у художника в голове намечен; что это как будто второй том одного и того же сочинения, что и у Ярошенки; только там, в первом томе, изображено: «вот, захотели подкупить, немножко похлопотали, поболтали, и — подкуп готов», а вот здесь, во втором томе, изображено: «но не всегда удается». Посмотрите, поглядите, как иногда подкуп и соблазн тоже и не достигают цели. Хорошо и легко было справляться с Иудой — но ведь он был только низкий, подлый человек! С высшими натурами — другое дело. Никакие обещания и роскошные картины благ земных ничего не поделают… Но мне нет никакой охоты верить подобным хитрым затеям, как ни почтенны были бы они в корню, и полагаю, что у всех вообще наших новых художников не удалось ничто религиозное, потому что у них просто не было к тому ни способности, ни истинного глубокого расположения.