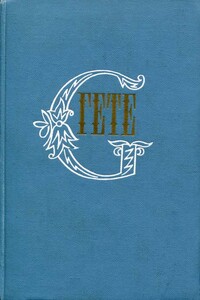И чтобы такую бедную, такую мало удачную вещь можно было назвать „гвоздем“ какой бы то ни было выставки?!
Всегдашний драбант по Риму и наперсник по искусству г. Семирадского, г. Бакалович, вышел на нынешний раз и того хуже. Избранный им, однажды навсегда, классический, условный, лакированный мир римлянок и гречанок наконец изменил ему, потому что никакое переливание из пустого в порожнее, хотя бы в самых льстивых и даже красочных формах, долго выносимо быть не может, и никакие гирлянды, античные столы и столики, браслеты, повязки и юбки уже более не спасут, когда промелькнула раз скука и пресыщение от бесконечного одного и того же. Правда, охотники на что угодно всегда найдутся, — собирателям и собственникам картин всегда так приятно показывать свой милый товар другим, приговаривая: „Но только посмотрите, как это тонко написано; какая тонкая кисть!“ Ох, уж эта толпа! Только про нее вечно и слышишь, особенно там, где в картине ровно ничего нет. Впрочем, что ж, когда именно в этом множество людей всего более нуждаются, только об этом и помышляют! Вот из трех картин г. Бакаловича одна, „Воспоминание“ (гречанка, сидящая на стуле, тупо и бездушно глядящая на какое-то ожерелье), уже и куплена. Значит — надо. Значит художник к будущему разу приготовит таких „Воспоминаний“ еще десяток.
Г-н Сведомский, такой же закоренелый классик и обитатель Рима, как двое предыдущих, представил со своей стороны однородный продукт: „Тибицену“, т. е. игралыцицу на дудочках. Сидит молодая девочка, с голыми руками, в большой соломенной шляпе, и дует во все щеки в раскрашенные дудочки; журавль слушает ее, переминаясь с ноги на ногу и, кажется, собирается пойти в пляс, в такт. И будто бы стоит писать, хотя бы и довольно колоритно, такой классический вздор!
Г-н Степанов, хотя и не классик, но принадлежащий к тому же отряду бутафоров, представил на выставку сценку „Бабушка спит“, — сценку неимоверно банальную и заезженную вот уже лет сто, а пожалуй, и больше, в комедиях, водевилях и у посредственных художников на картинах и картинках: бабушка спит в кресле у стола, лицом к зрителю, а ее расфуфыренная внучка, видно уже девчонка на все руки, вытягивает голову вперед, к двери, откуда молодой усач показывает ей запечатанное свое письмо. Вероятно, собственник тоже говорил друзьям: „Но посмотрите на милость, — как тонко написано! Юбочка, шелк, ручки, ножки, — ну и купил“. Ну, и дай им всем господь бог счастья с любезнейшим их вздором!
В числе других пожилых художников на этой выставке появляется также К. Маковский, художник, в сущности, богато одаренный от природы и начинавший когда-то так блистательно, так свежо и размашисто, что всех удивлял и радовал. Но это время давно прошло: он давно уже пишет все только большие французские будуарные панно и будуарные картины, либо французские маленькие конфетные головки. Но, однакож, оказывается, что и этот товар для многих у нас тоже нужен, и некоторые из выставленных вещей К. Маковского тотчас уже и куплены. Например, женская головка, в чепце (№ 98), конечно, „очень тонко написанная“ и, конечно, по-балетному улыбающаяся, „Хризантема“, т. е. молодая недурная женщина с серебряным орнаментальным обручем поперек лба, и черная „Венецианка“, без сомнения, тоже скоро будут куплены, а покуда про „Беседу“, повешенную по самой середке, уже и теперь можно всякий день слышать от истинных знатоков: „Ах, как эта старуха посредине, нянька или колдунья, вот та, что сидит между обеих барышень своих, в блестящих кокошниках и парадных сарафанах, ах, как она тонко писана!“ Значит, натурально, в самом непродолжительном времени ее тоже купят.
У этого же, когда-то столь замечательного и столько обещавшего художника есть еще два портрета на выставке: молодого мальчика в длинных волосах и его молодой матери, enface. Но тут уже, кроме комнатной обстановки, очень интересно написанной, блестящих ковров, целых гор яркого плюша, воздымающегося в фоне какими-то дымными солнечными горами и парами, и вообще, кроме всяких материй, шерстяных и шелковых, — уже ничего нет.
Еще другой из наших художников из прежних, г. Клевер, представил картинки: „Рыбацкая деревня“, „На рыбную ловлю“ и „Осень“. Все они указывают на очень умелого, привычного художника, уже много пописавшего картин, и тоже „ах, как тонко пишущего“, но жаль только, что он несколько переменил свою манеру. Большинство прежних пейзажей его (нередко, в самом деле, живописных) бросались всего более в глаза эффектным, живым, довольно правдивым освещением, которое, впрочем, иногда пересаливало каким-то рутинным ярким оранжевым фоном с яркими же черными полосами. Нынче — все почти серо, мутно и печально. Зачем же было бросать свет? Неужто вся природа в самом деле такова? Нет. Это тоже только своя манера и манерность. А одна манера чем лучше другой?
Еще один из прежних художников, ушедших из Академии, это — г. Лагорио, с неизменным синим южным морем, как атлас; чувствительный, задумчивый и кроткий, но также и бесцветный г. Пелевин; г. Сухоровский, автор „Нана“, приютившейся, наконец, где-то в Америке, а здесь — автор многих вовсе не интересных дам и дамочек; г. Галкин, любитель гладкого письма; г. Васильковский, всего чаще изображающий казаков и казацкие степи — по-французски, с шиком, понаторелостью и колоритом; г. Френц, певец залихватских охот, троек и собак; наконец, г. Саксен, не удовольствовавшийся своей недавней большой карикатурой на „Крейцерову сонату“ и потому теперь выступающий с маленькой карикатуркой-водевилем, где изображены пьяные (впрочем, иностранные) военные, валяющиеся в гусарских и иных костюмах по полу, в богатой гостиной, покуда какие-то барышни и горничные с любопытством и симпатией выглядывают на них из двери.