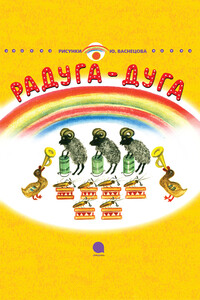Высокое искусство - [20]
И потом набрасывался на Тартюфа, хватал его за штаны и кричал:
Именно эти стихи я услышал теперь со сцены и обрадовался им, как старым друзьям, хотя, признаться, мне было немного завидно, что под столом уже не я, а Топорков. Это оказался старый перевод В.С. Лихачева, как значилось на рваной обложке той книги, по которой я в стародавние годы исполнял свою любимую роль.
Этот перевод в настоящее время многими будет признан неточным, хотя бы уже потому, что в подлиннике «Тартюф» написан александрийским стихом, а у Лихачева – разностопный грибоедовский ямб.
Подлинник весь состоит из двустиший, рифмы которых чередуются в строгом порядке, а в переводе этот порядок нарушен, и рифмованные строки по прихоти переводчика то сходятся, то разбегаются врозь.
Существует другой перевод той же пьесы, перевод Михаила Лозинского. В нем с добросовестной тщательностью воспроизведены и однообразная ритмика подлинника, и чередование рифм. И вот спрашивается, почему же театр с такой сильной литературной традицией, славящийся бережным отношением к писательским текстам, почему он отказался от точного перевода Лозинского и предпочел ему «менее точный» перевод Лихачева?
Ведь в новом переводе Лозинского налицо все показатели точности: в нем даже передана архаичность Мольеровой речи:
При всем моем пиетете к поэтическому творчеству Лозинского я должен сказать, что вполне понимаю, почему Художественный театр предпочел его переводу перевод Лихачева.
Потому что этот старый перевод, по крайнему моему разумению, наиболее верен, наиболее близок к французскому подлиннику, хотя в нем и отсутствуют те показатели точности, которые есть в переводе Лозинского. Ведь когда современник Мольера смотрел эту пьесу на сцене, она не звучала для него архаично. Между ним и Мольером не было этой стены условной, реставрированной, стилизованной речи, звучащей в формалистическом переводе Лозинского.
И кроме того, на фоне французских литературных традиций александрийский стих отнюдь не кажется чем-то чужеродным, ходульным, напыщенным; для французов он – дело домашнее. Французы к нему так же привыкли, как мы, скажем, к некрасовской ритмике или к четырехстопному ямбу. Так что никоим образом нельзя поставить знак равенства между тем, как ощущалась поэтическая форма во Франции XVIII века, и тем, как ощущается она современными советскими гражданами. Здесь разные комплексы разных исторически обусловленных чувств.
Что важнее всего в Мольере? Конечно, смех, то веселый, то горький, уже четвертое столетие раздающийся в театрах всего мира.
Так что наиболее точным переводом Мольера мы должны признать совсем не тот, где педантически переданы и строфика, и ритмика подлинника, и его цезуры, и его система рифмовки, но тот, в котором, как и в оригинале, звучит молодой, заразительный мольеровский смех. Между тем в переводе Лозинского этого-то смеха и нет. Все как-то накрахмалено, тяжеловесно, натянуто:
И нет ничего мудреного, что, когда живому театру понадобилось показать на сцене живого Мольера, а не архивную его реставрацию, он обратился к тому переводу, где, может быть, и не соблюдены все иллюзорные и внешние условия точности, но наиточнейшим образом передана духовная сущность Мольера.
Я это говорю с полным уважением к Лозинскому, перед заслугами которого я первый готов преклониться. Но этот случай с «Тартюфом» я считаю очень яркой иллюстрацией к тому главному тезису настоящей главы, что всякий переводчик, который, стремясь к наиточнейшей передаче оригинального текста, вздумает руководствоваться исключительно формальными правилами и вообразит, будто при переводе поэтического произведения важнее всего передать только строфику, ритмику, количество строк, порядок рифм, никогда не добьется точности, ибо поэтическая точность не в этом.
Вспомним о Василии Курочкине и его бессмертных переводах стихов Беранже. Кто же не знает, что в свои переводы он вносил бездну отсебятин и всяческих вольностей. А вот Всеволод Рождественский, опытный и культурный поэт, воспроизводит в своих переводах того же Беранже и число строк оригинального текста, и стихотворный размер, и чередование рифм, и характер переносов стиха, и характер словаря, и многое множество других элементов подлинника, но его перевод менее точен, потому что им в гораздо меньшей степени передано поэтическое очарование стихов Беранже, их музыкальная природа, их песенность.
V
Или вспомним переводы Маршака, которые тем и сильны, что воспроизводят не букву – буквой, но юмор – юмором, красоту – красотой.
Всмотримся в переведенное им стихотворение Бернса «For A’That and A’That» («Честная бедность»). Подстрочный перевод был такой:

Книгу Корнея Ивановича Чуковского `От двух до пяти` будут читать и перечитывать, пока существует род человеческий, ибо книга эта о душе ребенка. Чуковский едва ли не первым применил психологические методы в изучении языка, мышления и поэтического творчества детей, без устали доказывая, что детство - вовсе не какая-то `непристойная болезнь, от которой ребенка необходимо лечить`. При этом `От двух до пяти` - не просто антология увлекательных рассказов и детских курьезов, это веселый, талантливый и, пожалуй,единственный в своем роле учебник детоведения, заслуженно вошедший в золотой фонд детской психологии и педагогики.
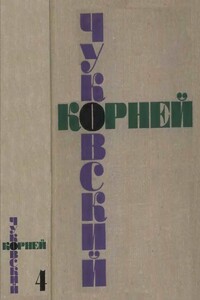
«Мастерство Некрасова» — фундаментальный труд Корнея Чуковского, относящийся к памятникам советского литературоведения. Монография, над которой Чуковский работал несколько десятилетий, исследует творчество русского литератора XIX века Николая Алексеевича Некрасова и рассказывает о месте поэта в русской литературе. Отдельной книгой труд впервые издан в 1952 году. В 1962 году за книгу «Мастерство Некрасова» Корней Чуковский удостоен Ленинской премии.

«Серебряный герб» — автобиографическая повесть, рассказывающая о детстве и отрочестве Коли Корнейчукова (настоящее имя К. Чуковского). Книга читается на одном дыхании. В ней присутствует и свойственная Чуковскому ирония и особый стиль изложения, который по настоящему трогает за душу, заставляя возвращаться в своё детство.

Семейная библиотека — серия отличных детских книг с невероятными историями, сказочными повестями и рассказами. В девятую книгу серии вошли три сказочные повести:М. Фадеевой и А. Смирнова «Приключения Петрушки»К. Чуковского «Доктор Айболит»Ю. Олеши «Три толстяка».

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и переосмыслениях.
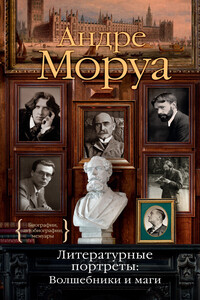
Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку о ком-либо из коллег по цеху, не было случайным.

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным.
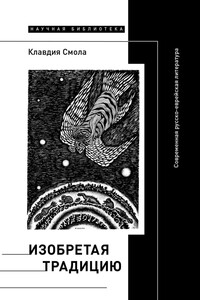
Как литература обращается с еврейской традицией после долгого периода ассимиляции, Холокоста и официального (полу)запрета на еврейство при коммунизме? Процесс «переизобретения традиции» начинается в среде позднесоветского еврейского андерграунда 1960–1970‐х годов и продолжается, как показывает проза 2000–2010‐х, до настоящего момента. Он объясняется тем фактом, что еврейская литература создается для читателя «постгуманной» эпохи, когда знание о еврействе и иудаизме передается и принимается уже не от живых носителей традиции, но из книг, картин, фильмов, музеев и популярной культуры.

Что такое литература русской диаспоры, какой уникальный опыт запечатлен в текстах писателей разных волн эмиграции, и правомерно ли вообще говорить о диаспоре в век интернет-коммуникации? Авторы работ, собранных в этой книге, предлагают взгляд на диаспору как на особую культурную среду, конкурирующую с метрополией. Писатели русского рассеяния сознательно или неосознанно бросают вызов литературному канону и ключевым нарративам культуры XX века, обращаясь к маргинальным или табуированным в русской традиции темам.