Введение в литературную герменевтику. Теория и практика - [58]
Болезнь нужна Ставрогину еще и потому, что ссылка на нее оказывается верным способом прекратить поиски других причин его поведения (вспомним спасительное «и наконец-то всё объяснилось!», прокатившееся в обществе после объявления Ставрогина сумасшедшим). Всякое другое причинное объяснение для Николая Всеволодовича становится нежелательным и иногда даже мучительным, потому что такое объяснение – это всегда ограничение свободы воли. Ставрогин же претендует на такую свободу, которая была бы ничем не детерминирована. Сами принципы причинности не должны быть применимы к объяснению его поведения. В этом смысле можно сказать, что Ставрогину близка позиция индетерминизма в вопросе о волевой обусловленности. Эта позиция просматривается, таким образом, уже в «раннем» Ставрогине, Ставрогине предыстории романа. Сама же история героя может быть прочитана и как развертывание и логическое завершение этой позиции.
Индетерминизм – это своего рода ловушка, известная в философии как парадокс «буриданова осла». Исходя из абсолютной, то есть ничем не обусловленной, свободы воли и из признания свободной воли единственной причиной действия, индетерминизм непременно приводит к невозможности осуществлять выбор. Ничем не обусловленная, воля оказывается лишена какого бы то ни было стимула для совершения того или иного выбора. Противоположные решения становятся равновозможными и именно поэтому выбор в конце концов оказывается неосуществим. Таким образом, абсолютная свобода воли неизбежно трансформируется в безразличие воли, а затем и в свою противоположность – полную атрофию воли, что, в свою очередь, ведет к гибели личности, поскольку сама жизнедеятельность оказывается парализована. Собственно, именно такой путь и становится романным путем Ставрогина.
В раннем Ставрогине действительно угадывается недуг, но не душевный, как полагали «члены клуба» и другие авторитеты губернского общества, а духовный. Шатов формулирует его как незнание «различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества» (Х, 201). Этот духовный недуг сказался позднее, например, в том, как, по слову того же Шатова, «в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни», когда он, Ставрогин, «насаждал в сердце» Шатова «бога и родину», он «отравил сердце […] Кириллова ядом», то есть атеистической идеей (Х, 197). И при этом, в одно и то же время обольщая одного православием, а другого безверием, он, по его же собственному признанию, «ни того, ни другого не обманывал» (Х, 197). Об обреченности ставрогинского духа на то, чтобы быть вместилищем противоположных крайностей, способных к взаимопревращениям и потому неразличимых в своей противоположности, о трагическом свойстве Ставрогина быть одновременно всем и тем самым ничем как о главной его особенности, губительной для него самого, замечательно написал Н. А. Бердяев: «Это мировая трагедия истощения от безмерности, трагедия омертвения и гибели человеческой индивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора [курсив мой. – Е. Л.] и оформления. […] Ему дано было жизнью и смертью своей показать, что желать всего без выбора и границы, оформляющей лик человека, и ничего не желать – одно, и что безмерность силы, ни на что не направленной, и совершенное бессилие – тоже одно»[43]. В конце концов, именно этот недуг приводит Ставрогина к гибели, которая оказалась, таким образом, тоже в известном смысле запрограммирована в одной из начальных сцен романа – в легкомысленных, казалось бы, выходках Nicolas, тяготеющих, на первый взгляд, скорее к жанру анекдота, чем трагедии.
Показателен в этом отношении и тот контекст, в котором неожиданно вновь, через несколько лет после описанных событий, всплывает история с губернаторским ухом. В своем обвинительном в адрес Ставрогина монологе (ч. II, гл. I) Шатов упоминает эту историю среди прочих поступков Николая Всеволодовича, на фоне которых, впрочем, укушенное ухо губернатора на первый взгляд предстает невинным чудачеством. Однако Шатов видит в этом «чудачестве» явление того же порядка, той же природы, что и принадлежность Ставрогина «к скотскому сладострастному секретному обществу» в Петербурге, развращение им детей или «позорная и подлая» женитьба его на «плюгавой, скудоумной, нищей хромоножке» (Х, 201–202). Для Шатова очевидно, что все эти поступки, при всей несоизмеримости степени их злодейства, в ставрогинском исполнении оказываются одним и тем же – в том смысле, что все они суть проявления одного и того же соблазна, который Шатов называет «нравственным сладострастием» (Х, 202). И здесь мы вновь сталкиваемся и с попыткой определить причину ставрогинского поведения, и с болезненной реакцией на эту попытку самого Ставрогина.
Объясняющие стратегии четырехлетней давности усилиями клубных старшин, тогдашнего губернатора и им подобных губернских умов разворачивались на почве идеологии. Шатов ищет объяснений на почве психологической. Идеологические мотивировки, как мы помним, были легко сняты, поскольку в случае с умалишенным идеология оказалась не актуальна. Шатовский же психологический подход к загадке Ставрогина, по всей видимости, обладает огромным объясняющим потенциалом, о чем в первую очередь свидетельствует ответное поведение самого Ставрогина. Реакция Николая Всеволодовича на предъявленное ему Шатовым обвинение в нравственном сладострастии («Вы психолог, – бледнел все больше и больше Ставрогин» – Х, 202) обнаруживает, что сама апелляция к психологии мучительна для него. Психологическое объяснение не позволяет увидеть в поступке исключительно акт воления; воление перестает быть единственным и потому конечным звеном причинной цепи, ведущей к поступку. Сам психологический строй личности, предшествуя воле, причинно обусловливая ее, задает ей определенную направленность. И в этом случае поступки Ставрогина предстают уже не свободными, а в известном смысле необходимыми. Однако для Николая Всеволодовича мучительной оказывается не столько сама идея психологической мотивировки личности, сколько конкретный опыт психологического подхода лично к нему. И дело здесь не в том, например, что в результате такого подхода раскрывается его тайна, что скрываемое становится достоянием чужого сознания. Дело в том, что объяснение – в данном случае не важно, осуществляется ли оно на почве идеологии или психологии, – любое объяснение стремится выявить в поведении закономерность. Объяснение устанавливает связь конкретного поступка с типом или моделью поведения, связь конкретного человека с человеческим вообще. Но именно эта связь и нестерпима для Ставрогина. Он, повторим это еще раз, своими поступками порывает всякие связи, ставит себя вне каких бы то ни было связей – с людьми, с традицией, с общественными нормами поведения, с представлениями об этически допустимом и т. п. Иными словами, со всем тем, что составляет основные координаты миропорядка, или культуры в целом. По сути дела, Ставрогин своим поведением бросает вызов самой культуре, которая, помимо всего прочего, есть всегда ограничение.
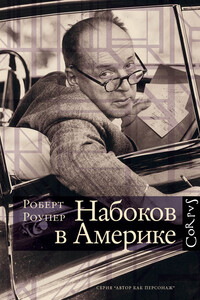
В книге подробно описан важный период жизни и творчества Владимира Набокова. В США он жил и работал с 1940 по 1958 год, преподавал в американских университетах, занимался энтомологией и, главное, стал писать по-английски. Именно здесь, после публикации романа “Лолита”, Набоков стал всемирно известным писателем. В книге приводится много документов, писем семьи Набоковых, отрывков из дневников, а также описывается жизнь в Соединенных Штатах в сороковые и пятидесятые годы и то, как она находила отражение в произведениях Владимира Набокова.

История экстраординарной жизни одного из самых любимых писателей в мире! В мире продано около 100 миллионов экземпляров переведенных на 37 языков романов Терри Пратчетта. Целый легион фанатов из года в год читает и перечитывает книги сэра Терри. Все знают Плоский мир, первый роман о котором вышел в далеком 1983 году. Но он не был первым романом Пратчетта и даже не был первым романом о мире-диске. Никто еще не рассматривал автора и его творчество на протяжении четырех десятилетий, не следил за возникновением идей и их дальнейшим воплощением.
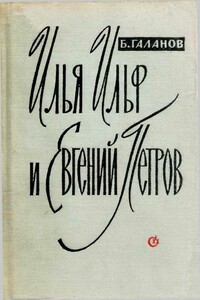
Эта книга — увлекательный рассказ о двух замечательных советских писателях-сатириках И. Ильфе и Е. Петрове, об их жизни и творческом пути, о произведениях, которые они написали совместно и порознь. Здесь анализируются известные романы «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», книга путевых очерков «Одноэтажная Америка», фельетоны и рассказы. Используя материалы газет, журналов, воспоминаний современников, Б. Галанов рисует живые портреты Ильфа и Петрова, атмосферу редакций «Гудка», «Правды» и «Чудака», картины жизни и литературного быта 20—30-х годов. Автор вводит нас в творческую лабораторию Ильфа и Петрова, рассматривает приемы и средства комического, показывает, как постепенно оживал в их произведениях целый мир сатирических персонажей, созданных веселой фантазией писателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Давайте посмотрим правде в глаза: мы тихо ненавидим русскую литературу. «Мы», возможно, и не относится к тому, кто читает этот текст сейчас, но в большинстве своем и нынешние сорокалетние, и более молодые предпочтут читать что угодно, лишь бы не русскую классику. Какова причина этого? Отчасти, увы, школа, сделавшая всё необходимое, чтобы воспитать самое лютое отторжение. Отчасти – семья: сколько родителей требовали от ребенка читать серьезную литературу, чем воспитали даже у начитанных стойкое желание никогда не открывать ни Толстого, ни, тем более, Пушкина.

Революция 1917 года – поворотный момент в истории России и всего мира, событие, к которому нельзя оставаться равнодушным. Любая позиция относительно 1917 года неизбежно будет одновременно гражданским и политическим высказыванием, в котором наибольший вес имеет не столько беспристрастность и «объективность», сколько сила аргументации и знание исторического материала.В настоящей книге представлены лекции выдающегося историка и общественного деятеля Андрея Борисовича Зубова, впервые прочитанные в лектории «Новой газеты» в канун столетия Русской революции.

«Изучая мифологию, мы занимаемся не седой древностью и не экзотическими культурами. Мы изучаем наше собственное мировосприятие» – этот тезис сделал курс Александры Леонидовны Барковой навсегда памятным ее студентам. Древние сказания о богах и героях предстают в ее лекциях как части единого комплекса представлений, пронизывающего века и народы. Мифологические системы Древнего Египта, Греции, Рима, Скандинавии и Индии раскрываются во взаимосвязи, благодаря которой ярче видны индивидуальные черты каждой культуры.

Каково это – быть Шекспиром? Жить в елизаветинской Англии на закате эпохи; сочинять «по наитию», не заботясь о славе; играючи заводить друзей, соперников, покровителей, поклонников, а между делом создавать величайшие тексты в мировой литературе. Об этом и других аспектах жизни и творчества самого известного – и самого загадочного драматурга пишет в своей книге О. В. Разумовская, специалист по английской литературе, автор многочисленных исследований, посвященных Шекспиру. Не вгоняя своих читателей в тоску излишне академическими изысканиями, она предлагает свежий и полный любопытных деталей обзор эпохи, породившей величайшего гения. Последовательно воссоздавая детали творческого и жизненного пути Шекспира в культуре и литературе, этот курс лекций позволяет даже неподготовленному читателю составить о Шекспире представление не только как о сочинителе, но и как о личности, сформировавшейся под воздействием уникальной эпохи – английского Ренессанса.