Вукол - [5]
Лишь только кончил Вукол урок по Начаткам, именно об Антиохе Эпифане, – вошел к нему дядя. После вопросов: кто хуже чорта, в который день создана курица и т. п., дядюшка сказал: «А что это я никогда не спрошу у тебя урок? Читай-ка, брат, что учил сегодня».
Вукол зажмурил глаза и начал читать. Дядя следил по книге пальцем и был, повидимому, доволен. Но вот Вукол дошел до камня претыкания: он назвал Антиоха Эпифана Эпиохом Антифаном.
– Что? – закричал дядя, – повтори-ка, скотина!
Повторил Вукол.
– Мерзавец! Это кощунство! Розог! Позвать Гаврилу!
– Дядюшка, дяденька! бейте, но не секите; есть не давайте три дня, ухо оторвите, но не секите. – Выговорив это, Вукол еще более испугался. Надобно заметить, что он не был еще ни разу сечен.
– Покажу я тебе, кощун, как смеяться над божественным. – Дяде казалось все святым, что напечатано славянскими буквами.
Совершилась операция сечения розгами – одна из отвратительнейших операций. И больно было Вуколу, и крайне стыдно. В розгах он видел последнюю степень позора. Первый раз он сознал себя, первый раз в сердце его кипела злоба на старших. Злоба душила его. Оставшись один, Вукол заговорил: «А, так высекли, высекли же!.. давно обещались!..» – и потом заплакал. – Случалось ли вам видеть кошек и собак, которых никогда не били? Если ударить такое животное, особенно в старости, оно приходит в ярость и нередко бросается на хозяина. Но Вукол все-таки был человек, и первые розги, притом за напраслину, должны были произвести потрясающее действие. Вот он несколько успокоился. Началась в душе работа. Из покорного, тихого, забитого ребенка он стал вдруг дик и мстителен.
– А, – заговорил он, – не боюсь же я теперь и розог… Ничего не боюсь… Да и чего ж теперь бояться, чего ж бояться?… Пусть бьют, все одно… А и я хотя раз да побью же кого-нибудь… Дядю побью… Палкой побью… Право, пойду и ударю… Высекут? Пусть высекут… Пусть………………………………………………………………………………………………
Лицо Вукола исказилось. Оно стало вдвое уродливее. Вот он опять замолчал. Слеза, как катилась, так и повисла на полщеке; глаза вытаращены, не бродят они с предмета на предмет, но и не смотрят на что-нибудь определенно; рот полуоткрыт. Это наступило минутное затишье. Вот уже муха на стекле обратила его полувнимание. Он давнул ее пальцем почти бессознательно… «Маменька! – вдруг закричал он, – меня бьют, ругают, секут!..» Первый раз Вукол выразил горе своей детской жизни. Тотчас же после этого нашло на него какое-то дикое состояние. Он наклонился вперед, надулся, лицо налилось кровью и стал вопить, и вопил не какое-нибудь определенное слово или букву, а просто тянул отчаянным образом звук, который на бумаге не выразить, а можно только голосом показать. Это называется вопить благим матом. Ревел Вукол, ревел. Наконец он бросился на кроватку, вцепился в подушку зубами, так и замер, сразу оборвался вопль его. Опять настало затишье. Должно было ожидать кризиса, как и. первый раз. Замечено у прочих детей, что после первого замирания слез, в период всхлипыванья, когда у них рот разинут, кулак остановился на полдороге к глазу, на лице выражение стремительное, как бы вникающее (хотя понятно, что оно ни во что не вникает), – замечено, что у них тотчас после такого состояния светло на душе, горло очистилось криком, грудь поднимается высоко, всякая жилочка играет, кровь, как говорят, полируется, тогда что-то праздничное, что-то особенно легкое в поведении ребенка. Припомните свое детство – быть может, много насчитаете таких праздников. Но, верно, у Вукола была натура оригинальная. Отлежался он, собрался с силами, переломил себя и встал. Кулаки его крепко сжаты, зубы стиснуты. «Нянька, дура, старый чорт, и ты не заступишься за меня! Не хочу же и учиться! Нате, любуйтесь. – Он разорвал Начатки в клочья. – Нате, любуйтесь!» Он раскидал клочья по полу… Немного погодя подобрал он несколько лепестков. Возьмет один лепесток, плюнет на него и прилепит на стену, возьмет другой лепесток, плюнет и прилепит на дверь, третий на стекло, четвертый на лежанку, потом опять на стену, на дверь, на стекло и лежанку. Скоро была разукрашена вся комната. Наконец он успокоился мало-помалу; на лице выразились решительность и сосредоточенность мысли, а в уме постоянно вертелось: «Пойду и ударю; да, ударю, ударю, ударю!.. Обеими руками палку захвачу… Все меня ненавидят!.. А себя мне не жалко… ударю». Вукол отправился в кухню.
Многим родителям, инспекторам, опекунам и прочим воспитателям и руководителям младенчествующего поколения приходилось наблюдать такое ожесточение и давать детям за такое ожесточение имя негодных и потерянных. Дитя, говорят, молодое деревцо, – можно дать ему какое угодно направление, переводить на какую хочешь почву; дитя – воск мягкий, которому можно дать какую хочешь форму; дитя – лист чистой бумаги, на котором, что взбредет в голову воспитателю, то и пиши. И сами потом воспитатели дивятся, как это из чистого, нежного, мягкого воску вылепилось у них уродливое детище, которое, как будто белены хвативши, начинает вопить и кричать, которое поднимает палку на наставника, кусает ему руки, закапывает, подобно Остапу

Повесть «Молотов», продолжение «Мещанского счастья», репрезентирует героя спустя 10 лет, за это время Молотов узнает, чего стоит независимость и разочаровывается во многом, хотя его переполняет гордость, что он ничем никому не обязан.
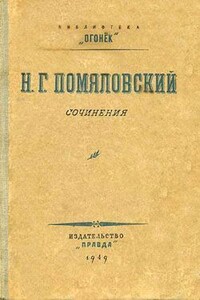
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
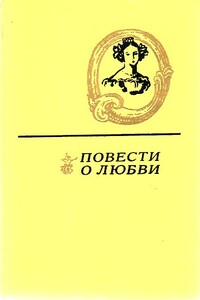
Николай Герасимович Помяловский. 1835 — 1863.Повесть написана в 1860 году. В 1861 году опубликована во втором номере журнала «Современник».Печатается по изданию: Н. Г. Помяловский. Повести. М., 1973.
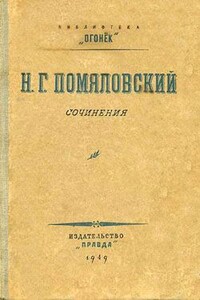
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
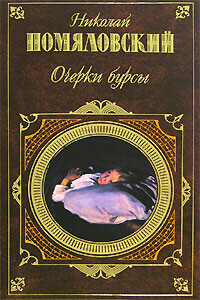
Известность Помяловского зиждется почти исключительно на его «Очерках бурсы». Бесспорно, талантливые очерки освещали один скромный, но очень темный уголок русской жизни, куда не заглядывало еще ничье независимое око. Культурное русское общество, сокрушавшееся по поводу «Антонов-Горемык», зачитывавшееся «Записками охотника», было поражено откровением, сделанным Помяловским. С ужасом узнало оно, что в Петербурге — центре культурной жизни, существует известная до сих пор лишь по добродушному описанию Гоголя и Нарежного бурса и что в этой бурсе творятся дела, поражающие своей бесцельной и бесчеловечной жестокостью.
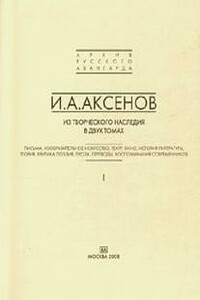
В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
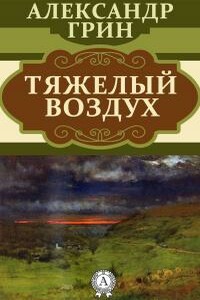
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».
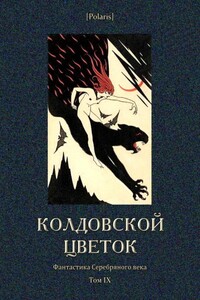
Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.