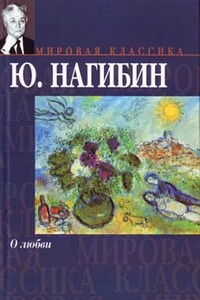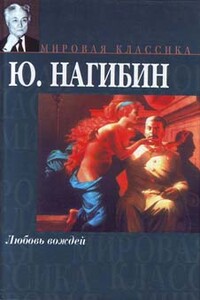В соседней деревне Акулово жила старшая сестра Верони — иконописно красивая Саша с мужем и детьми. Павел Николав, так уважительно звали Сашиного мужа, был самый справный хозяин во всей округе. Такими же работящими, ладными и ухватистыми были его дети. У Павла Николава ходили в стаде две коровы, а в стойле стояли две лошади: кобыла и мерин. В двадцать девятом году на моих глазах его раскулачили. Эта ночь, когда ревела скотина, плакали дети, молчали Павел Николав и Саша, навсегда осталась в моей памяти. После выхода фильма «Председатель» литературные стражи, почитающие своим призванием не подпускать чужаков к сельской калитке, спрашивали меня иронично: давно ли я так заинтересовался деревней? Давно, с той самой ночи…
И мать, и отчим надеялись, что из меня выйдет настоящий человек века: инженер или ученый в точных науках, и усиленно пичкали меня книгами по химии, физике, популярными биографиями великих ученых. Для их и собственного успокоения я завел пробирки, колбы, какие-то химикалии, но вся моя научная деятельность сводилась к тому, что время от времени я варил гуталин ужасного качества. Впрочем, это позже…
До восьмилетнего возраста всем, желавшим знать, кем я хочу стать, когда вырасту, я отвечал: агентом МУРа. Я не знал, что это такое, но мне нравилась мужественная звучность этого словосочетания. В восемь лет, пережив с необыкновенной глубиной и взволнованностью эпопею по спасению Нобиле, я хотел стать Амундсеном или Чухновским. В первом меня привлекала красота его гибели ради спасения недруга, во втором — блистательная удачливость подвига.
Через год я неистово увлекся «Тремя мушкетерами», не столько самим романом, сколько идеей дружбы, так обаятельно воплощенной в его героях. Это увлечение на несколько лет окрасило мою жизнь, я жил в двух образах: обычного московского школьника и Д'Артаньяна. А мои друзья Павлик, Борька и Колька стали соответственно Атосом, Портосом, Арамисом. Впрочем, Арамис оказался образом составным, в какое-то время Колька уступил место Осе Роскину. У нас были мушкетерские плащи, шляпы с перьями, шпаги с красивыми эфесами. Но главное не в бутафории, эти друзья моего детства, отрочества, юности дали мне сполна то, что Экзюпери называл «золотом человеческого общения». Судьба моих друзей была трагична: Павлик и Ося погибли на фронтах Отечественной войны, Колька — в Освенциме. Мы с Борисом, отвоевав, не смогли вновь наладить дружбу, слишком остро чувствуя рядом с собой зияющую пустоту.
Долгое время я, уже достаточно взрослый парень, верил, что всю жизнь проношу шляпу с пером и мушкетерский плащ. Но в тринадцать лет я без боли и сожаления расстался с этими ребяческими мечтами. Во мне проснулось сердце, я влюбился в девушку старше меня на два года и как бы перешел душевно в другой «вес». Любовь моя, как обычно бывает с первой любовью, оказалась неудачной, и я всецело предался спорту и общественной работе. Учился я на одни пятерки — главным образом потому, что не чувствовал особой склонности ни к одному предмету.
Вот тут и наступила пора варки гуталина и смутной, тщательно таимой от всех неуверенности, что я действительно стану ниженером.
Зато все уверенней я чувствовал себя на футбольном поле. Тогдашний тренер «Локомотива» Жюль Лимбек предсказывал мне большое будущее. Он обещал ввести меня к восемнадцати годам в дубль мастеров. Но моя мать не хотела смириться с мыслью, что она в муках рожала и вспаивала голодным молоком левого хавбека или правого инсайца(?). Видимо, под ее нажимом отчим все чаще убеждал меня что-нибудь написать. Да, вот так искусственно, не по собственному неотвратимому позыву, а под давлением извне началась моя литературная жизнь.
Я написал рассказ о лыжной прогулке, которую мы предприняли всем классом в один из выходных дней. Отчим прочел и больше не просил меня писать. Конечно, рассказ был плох, и все же я с полным основанием считаю, что уже в первой попытке определился мой столбовой литературный путь: не придумывать, идти впрямую от жизни, «копаться» в материале действительности, стремясь найти в ней как можно больше.
Я отлично понял молчание отчима и не пытался оспорить уничтожающую оценку, скрывавшуюся за этим молчанием. Но писание захватило меня. С глубоким удивлением обнаружил я, как от самой необходимости перенести на бумагу несложные впечатления дня и черты хорошо знакомых людей странно углубились и расширились все связанные с этой немудреной прогулкой переживания и наблюдения. Я по-новому увидел моих школьных товарищей и нежданно сложный, тонкий и запутанный узор их отношений. Оказывается, писание — это постижение жизни…
Я стал писать, но уже тайно от своих близких. Мне захотелось разобраться в себе, понять наконец, с кем сосуществую вот уже семнадцать лет и кто не порадовал меня ни одним самостоятельным решением, выбором, поступком. Это была не отвлеченная, а жизненно важная задача, я должен был найти себя. Повесть-рассуждение, которую я не просто писал ночи напролет, а как-то извлекал, изживал из себя, так и называлась «Я». Тут не было нескромности, ибо злосчастное «Я» подвергалось беспощадному анализу и жесточайшему осуждению. Помимо же всего, это был шаг на пути к взрослости, которую, как мне порой кажется, я в общем-то миновал, сразу перешагнув в старость.