Возвращение корнета. Поездка на святки - [74]
— Пойдемте, пойдемте, милости просим. Тут рукой подать — дорогу-то еще не забыли?
Забыть дорогу! На смертном одре он не забудет ее. Подберезкин пошел за Аленкой. Казалось, сама судьба решала за него. Может быть, так было и лучше и безопаснее; с нею он меньше вызывал подозрений. Его тянуло сразу спросить о Леше, но он боялся ставить этот вопрос, уже теперь, впрочем, сознавая, что сестры его не было в Муханах, иначе Аленка давно бы сказала.
Перейдя шоссе, повернули они на знакомую милую кленовую аллею, о которой он так часто вспоминал заграницей; и — удивительно! — и сейчас он повернул на нее с тем же приятным чувством приближения к дому, что и раньше. Клёны, видно, все эти годы не подрезали, и они мохнато разрослись в ширину, аллея потемнела, постарела, походила теперь на туннель. И всё-таки ничего не изменилось коренным образом, внешне всё осталось таким же, только выглядело запущенным, как без хозяйского глаза. А Аленка шла рядом и, не переставая, сбиваясь, торопясь, всё что-то рассказывала; он воспринимал знакомые имена, но до сознания слова ее не доходили. Отчасти он жалел, что не один подошел к дому, а отчасти был и благодарен, ибо боялся этих минут. Но вот аллея повернула налево, разбежалась — теперь должен был показаться дом! Подберезкин, сам того не замечая, судорожно схватился за Аленкину руку.
— Сейчас, сейчас, — отозвалась она, как будто ободряя.
И тут же они вышли на площадку перед домом, и сердце его словно оборвалось и упало. Дом стоял, но что они с ним сделали?.. Как и прежде, в мягкой тени маленькой лоджии стоят милые стройные четыре колонны, прислонясь к одной из которых подолгу курил трубку вечерами отец, молчаливо глядя куда-то вдаль, в небо; взбегает подъезд с двух сторон к балюстраде, сияет на солнце светло-желтый фасад с двумя рядами окон, но от всего веет бездомностью, одичанием. Темно, пусто, как мертвые глаза, зияют окна без единой занавеси, щербится, осыпаясь, штукатурка, зачах даже плющ, буйно вившийся по карнизу; внизу вдоль всей стены волны осыпавшейся известки, крапива и чертополох! По верху лоджии прибита ржавая красная доска, и на ней стоит зелеными буквами: «Совхоз имени Калинина», а повыше: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Осыпающиеся стены, мертвые окна, запустение — ничто не действовало так, как эта ужасная доска на милом мухановском доме!.. Да, сила и единственное право их было в объединении, в массе, тогда как он, все люди его круга, по-видимому, ценили больше всего одиночество, и вот те побеждали!.. А пруд направо, с таким трудом, с такой любовью устроенный и взлелеянный отцом, затянулся тиной, зарос, в мутной воде плавают, накренясь, ржавые пустые банки. Не напрасно говорило сердце: лучше было не возвращаться сюда, а сохранить образ, но раз уж он был здесь, надо было пройти всё до конца. И, быстро поднявшись в лоджию и опять остро вспомнив отца сидящим здесь в соломенном кресле, в белом костюме из чесучи и мать рядом за самоваром, корнет с трудом открыл заржавленную стеклянную дверь и вошел в дом. В передней, где раньше сразу приятно обдавало особым запахом яблок, и трав, и цветов, в изобилии стоявших всюду, и пахучего трубочного табаку, что курил отец, и старой кожи от множества охотничьих сумок и патронташей на столах, теперь пахло затхлой пылью, было пусто, всюду валялись вывороченные плитки паркета, висели литографские портреты Сталина, Ленина, Маркса и еще каких-то лиц, и множество плакатов, как один, похожих друг на друга, с изображением толп и развевающихся знамен. Как мало было у революции воображения!.. Быстро, не давая нахлынуть воспоминаниям, он шел через кабинет отца, гостиную библиотеку — всюду было пусто, исчезла вся прежняя мебель, все книги, картины; вместо них стояли грубые конторские столы, покрытые обрывками закапанной промокательной бумаги, досчатые этажерки с синими делами, и на стенах опять были серые выцветшие плакаты, указы и распоряжения, и графики о трудоднях и займах, наколотые ржавыми кнопками. Вместо жилого человеческого дома здесь была третьеразрядная канцелярия, и в этом было всё существо нового. Обращение человека в машину, дома — в фабрику или бюро, народа в плебс, — подумал корнет, — в однотипную массу — вот и вся разгадка революции, весь ее смысл. Этот совхоз, или, как они его звали? — бездушно делал то же, что веками с любовью и надеждой делали его предки: ходил за землей. Только раньше были здесь человеческие чувства, радость и скорбь жизни, а теперь водворилась канцелярия. Пусть их — думал он — пусть забавляются и живут по-своему! Для них это была, возможно, жизнь, составляло им счастье, для него же — варварство и пошлость и жить с ними да еще славословить их он не мог по одному этому; лучше считаться на чужбине последним нищим, пока там еще можно было жить так, как хотелось… впрочем, вероятно, уже не долго. И там во всю цвел Massenbetrieb. Ни за что не стал бы он славословить это варварство, но и проклинать их не хотел — людей, строивших эту новую жизнь, — что с них спрашивать: они не знали, что делали. По наущению, из зависти они разрушали красоту, и вместо нее взошла пошлость. Иначе и не могло быть! И нет, по-видимому, возвращения к былому — разрушено до основания. Стоит теперь между тем и этим толща лет, пропасть… Пускай, пускай!.. Ни те, ни другие не поймут друг друга, хотя вот Аленка и он друг друга понимали…

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
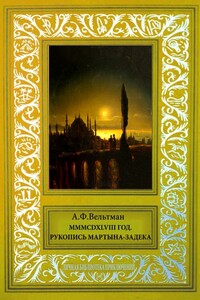
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
