Возвращение корнета. Поездка на святки - [10]
Всё еще неуверенно держась на дрожащих ногах, я открыл глаза и осмотрелся. Кругом все кипело в ослепительно белом блеске. Сани наши стояли по середине укатанной дороги с двумя желтыми, глянцевитыми желобами от полозьев; от мохнатых лошадей валил густой пар, опустив голову, они поводили ушами и отхрапывались. Егор зашел за возок и, отвязав мешок с провизией, снес его к избе; потом он отвел лошадей под сарай и пошел принести воды: из дому выскочил малый и весело закричал:
— Не давай сразу воды-то — зайдутся!
— Ай, какой умный, ответил так же весело Егор. — Ученого учить, брат, только делу портить. Поди, достань сена!
— А может, скажешь, овса? — переспросил парень, скаля зубы.
— Неси овса, коли можешь поставить, — ответил солидно Егор и пошел дальше, не глядя на парня.
«Так вот оно какое, это Турасово!» — думал я, глядя на два ряда бревенчатых изб с двускатными крышами под пухлым ковром снега. Невдалеке от нас, в сторону от дороги, стоял сруб колодца, весь обросший ледяной корой, с тяжелой, деревянной бадьей, тоже сплошь обледенелой, на уключине. К колодцу вели зеленые ледяные потоки, и всё вокруг него было залито водой и тоже обледенело. Теперь к нему шел Егор с ведром в руках. Он одет в бурый овчинный полушубок, подпоясанный цветным кушаком, на ногах у него расписные валенки, а на голове островерхая меховая шапка, как рисуют ее у Ивана Грозного или у Пугачева. И розвальни наши под серой кибиткой, и деревянные дома кругом с резными оконцами, всё это было какое-то старинное, пугачевское, и мне невольно вспомнилась «Капитанская дочка» Пушкина, которую мы только что читали в гимназии на уроках словесности. Там она не производила на меня никакого впечатления, там разбирали мы прямые и вводные предложения и периоды и еще какие-то другие обороты речи, а здесь, вдруг, я почувствовал явственно тот же самый мир, ту Россию, стоявшую уже столетия; я видел ясно, как ехал по степи, по снегу, Гринев с Евсеичем в такой же кибитке, что и у нас. Деревня лежала на берегу реки, другого берега совсем не было видно — передо мной простиралась, текла, кипя в остром блеске, белая бескрайность, а над этим зыбким белым блеском покоилось холодное, застывшее, иссиня-зеленое небо; и мы были словно замкнуты в этом беспредельном, безмолвном русском мире.
— Сомлел, боженый? — переспросил Егор, приближаясь с ведром. — Ступай, разомни ножки, а я об эту пору самовар схлопочу. Ты, может, щец похлебаешь? Хозяева, знать, варили, богатый дом, на проезжающих доходы большие имеют…
Я послушался и прошел на гору, и стал там, зачарованный этим ледяным миром, с каким-то жутким счастьем, ощущая свою принадлежность к нему и свою безнадежную в нем потерянность и малость. Мне пришло вдруг в голову, что нигде кругом не было видно церкви Это так поразило меня, что я даже испугался — до того показалась потерянной, и сиротливой, и забытой в миру эта деревня. Да как же они без церкви?.. Скоро Рождество, — куда же они утром к службе пойдут, как же это у них даже колокольного звона не бывает?.. И с чувством недоумения и глубокой жалости к этим домам я пошел назад к постоялому двору.
Обитая соломой дверь снаружи обтянута серой дерюгой, в избе, справа от входа, покоится огромная русская печь с полатями, вдоль стен бегут массивные, низкие, деревянные лавки, в переднем углу под иконами — огромный тесовый стол. Потемневшие от времени, растрескавшиеся, глянцевитые стены не обиты ничем, между балками, в пазах, лежит седой мох. Всё это я сразу разглядел, все это было в любой крестьянской избе на севере, и меня опять поразила нерушимость и стойкость жизни здесь, — в городе каждый дом был иной, а комнаты меняли свой облик даже ежемесячно.
В избе тепло, пахнет свежим хлебом и щами, Егор уже хлопочет около самовара, доставая наши дорожные продукты: ветчину, яйца, домашнюю колбасу.
— Ах, грех, грех, — шепчет он беспрестанно, — в рождественский пост мясо принимаем — да что взять, дело дорожное, в гостях, в дороге и архиереи мясное дозволяют.
— Сними тулупчик, — поворачивается он ко мне, — да пройдись в горницу, хозяйка сейчас тебе щец нальет.
Хозяин двора, высокий, рыжий мужик с лоснящимся лицом, а хозяйка — молодая, беременная баба с чудовищно вывороченным животом, с совершенно белыми губами. Кроме них, в избе целая куча ребятишек. Они все смотрят на меня, открыв рот, как галчата, и в другое время я ощутил бы, несомненно, гордость, сняв тулуп и оставшись в новенькой, серой гимназической шинели с петлицами, со светлыми пуговицами, но сейчас ничто не щекотало мое самолюбие; была только усталость и желание скорее попасть домой. И, пройдя в горницу, я долго стоял в одиночестве у окна, глядя на пурпурно рдеющий край неба, на розовато мерцающий снег, на широкие переливы дальней зари — было почему-то грустно и сиротливо на душе от этого вечернего покойного света и этого огромного мира, и в то же время радостно вздрагивало сердце при мысли — и не верилось, — что завтра я буду дома!.. Вот уже второй год я учился в городе, в гимназии, вдали от семьи, за 500 верст от дому, а первые детские годы, уже навсегда ушедшие, всё еще владели мною; я всё еще надеялся на какое-то возвращение вспять, к тем тихим дням, когда я жил дома с семьей, когда весь мир был прост и ясен и не пугал своей величиной, и я не стоял один перед ним… Чтобы не беспокоить Егора, я поел «щец» и ветчины и выпил чаю с баранкой, хотя мне ничего не хотелось; Егор же сидел в избе с хозяевами и рассказывал о большом городе, откуда мы ехали, о моих родителях и об их богатстве, и врал при том самым невероятным образом, и с видимым удовольствием, как будто те многие тысячи рублей «капиталу», как он выражался, принадлежали ему самому.

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Книги Сэлинджера стали переломной вехой в истории мировой литературы и сделались настольными для многих поколений молодых бунтарей от битников и хиппи до современных радикальных молодежных движений. Повести «Фрэнни» и «Зуи» наряду с таким бесспорным шедевром Сэлинджера, как «Над пропастью во ржи», входят в золотой фонд сокровищницы всемирной литературы.

В книгу вошли стихотворения английских поэтов эпохи королевы Виктории (XIX век). Всего 57 поэтов, разных по стилю, школам, мировоззрению, таланту и, наконец, по их значению в истории английской литературы. Их творчество представляет собой непрерывный процесс развития английской поэзии, начиная с эпохи Возрождения, и особенно заметный в исключительно важной для всех поэтических душ теме – теме любви. В этой книге читатель встретит и знакомые имена: Уильям Блейк, Джордж Байрон, Перси Биши Шелли, Уильям Вордсворт, Джон Китс, Роберт Браунинг, Альфред Теннисон, Алджернон Чарльз Суинбёрн, Данте Габриэль Россетти, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд, а также поэтов малознакомых или незнакомых совсем.
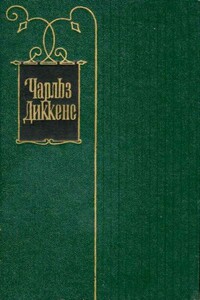
«Приключения Оливера Твиста» — самый знаменитый роман великого Диккенса. История мальчика, оказавшегося сиротой, вынужденного скитаться по мрачным трущобам Лондона. Перипетии судьбы маленького героя, многочисленные встречи на его пути и счастливый конец трудных и опасных приключений — все это вызывает неподдельный интерес у множества читателей всего мира. Роман впервые печатался с февраля 1837 по март 1839 года в новом журнале «Bentley's Miscellany» («Смесь Бентли»), редактором которого издатель Бентли пригласил Диккенса.
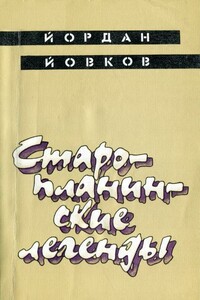
В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».

