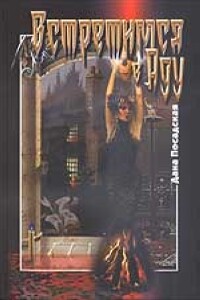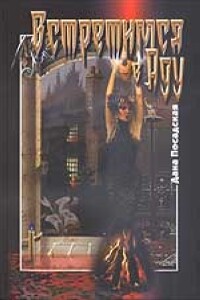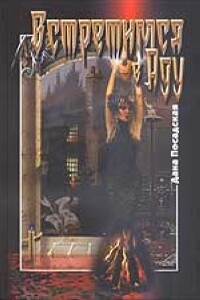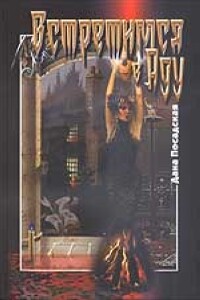Матильда не знала. Не знала о том, что небо темнеет, что смутные тени, покинувшие лес, заполняют его, словно гости — бальную залу. О том, что солнце скользит в луну, как в зеркальную пропасть, разбиваясь на бесчисленное множество осколков. Не знала о том, что в диких виноградниках длинные лозы шевелятся, будто змеи, и густой, как солнечный свет, как кровь, приторный сок стекает на землю. Что далеко — за лесом — за лугом, простёртом, как рана, навстречу пропасти неба — в чёрных болотах, куда не проникнет солнце, где светит луна и болотные огни, возрождается древний, истерзанный бог. Что воздух отравлен его дыханием, что в закатном сверкающем свете — его безумие. Юный бог, прекрасный, как сон, безжалостный, как ребёнок… Он снова родился, он здесь. Волки в лесах недоверчиво льнут к шоколадной опавшей листве, к холодной земле, пахнущей тленом, и их голоса возносятся к небу, как песнопения. Опьяневший закат беснуется в небе, которого нет. Есть пустота; огненным вихрем мечется он в пустоте, пытаясь достать рыжим хвостом до бледных призраков звёзд.
Беги, Матильда. Беги от кровавых слёз, горящих на небе, от бархатистого мрака, который ползёт с болот. Ветер касается губ, он обжигает, пьянит. Горечь, Матильда. Горечь, горечь и горечь… И пустота внутри, такая же, как в небе; такая же, как за протёртой до дыр тряпичной маской луны. Лишь золотые осенние листья гаснут в чернильной воде болот. Лишь над лугом вздымается серый шатёр, и пурпурные звёзды горят на его стенах… Это обман, Матильда, беги от него. Беги, пока яд не проник в твоё сердце, не затуманил глаза. Беги, пока мёртвый бессмертный зверь, спящий в тебе, не почуял запах вина и крови и не воскрес, не проснулся, не разорвал твою душу…
Запах тлена, ладана, крови. Запах костра, сосновой хвои, влажной земли, дождя, виноградного сока, морского прибоя и роз, роз, бессчётного множества роз — перезрелых, отцветших, из всех садов Востока. Или не было запаха. Только лишь тени в закатном удушливом мареве. Не вдыхай. Не смотри. Не слушай.
По улице шёл Карнавал.
Музыка. Или это была не музыка? Звенящий шёпот бубенцов, гортанные всполохи бубнов. И — иногда — пронзительный, горький вопль скрипки.
И всё это на фоне другого звучания. Это церковный орган? Или нет? Тяжелый, густой, мучительный звук, противиться которому немыслимо. Звук без начала и без конца. Этот звук мог зародиться на дне океана, в те времена, когда до человека было дальше, чем до звёзд на небе.
Темнело. Из сумерек величественно выступили кони. Вороные, лоснящиеся серебром. Что у них на головах? Чёрные плюмажи? Разве это — траурный кортеж? Безумие.
Мостовая замирала под тяжелыми бесшумными копытами. Время крошилось. Воздух звенел, как решётка.
Львы. Помост, а на нём — в окружении ржавых прутьев — три льва. Три пылающих яростно солнца. В узких зрачках, рассекающих их золотые глаза — смерть, кровь и пустыня.
Снова помост. Закрытый фургон. С каждым ударом сердца становилось темнее, холоднее. Сумрак разрезали первые звёзды. Тени смыкались. И тут появилась она.
Танцовщица.
Она шла, летела, скользила в безудержном бешеном танце, держа на цепи сверкающую чёрную пантеру. Их тела почти что сливались в одно. Густые иссиня-чёрные волосы вихрем обдавали её лицо, скрывая всё, кроме глаз — зелёных, тигриных, безудержных.
Перед Матильдой всё замелькало, покрылось лиловыми и розовыми пятнами. Ей показалось, что танцовщица преображается. Вот она цыганка, сотрясающая бешено ворохом грязных юбок и бесстыдно обнажающая смуглую грудь. Нет, нет, она — индианка, храмовая танцовщица, славящая экстатическим танцем священное сладострастие Шивы. Её тело бьётся, словно в предсмертных конвульсиях, руки извиваются заворожёнными кобрами…
Нет, теперь она дикарка, менада, её глаза черны и пусты, с губ стекает вино, её тело изодрано в кровь — дикими зверями или собственными длинными ногтями?
И вот последнее видение — невыносимое. Танцовщица была обнажённой — лишь волосы чёрным огнём вились вокруг тела. И тело таяло, словно дым. Что это — плоть или просто скелет? Полупрозрачные белые кости, восставшие из могилы? Не смотри! Нет, уже поздно… Воздух стал розовым, нет, багровым… В её руках чаша, наполненная чем-то тёмным. Чаша всё ближе, она чувствует запах… Нет, не надо! Только не это!
Она не закричала. Она лишь прижала руку к губам. Нет, она прокусила руку, и кровь закапала прямо на землю.
Карнавал замер. Замерло всё. Танцовщица смотрела ей прямо в глаза. Её лицо было так близко — и так далеко. Но она его видела. Видела всё. Бледное лицо с раскосыми глазами и треугольным шрамом у виска.
2
По узкой улочке, вылизанной ночью, торопливо шёл человек. Торопливость отнюдь не была ему свойственна; весь путь, от колыбели до этого проклятого богом места, он прошествовал размеренно, как маятник. Теперь же он почти бежал. Он чувствовал, он знал, он верил: что-то или кто-то движется за ним, неотступно, как тень, как эхо его шагов.
Он оглянулся. Ничего. Никого. Только темнота — густая, текучая, живая, словно готовая в любой момент разразиться сатанинским смехом. Занавес, который вот-вот раздвинется, выпуская на сцену актёра. Кошмарный сон, просочившийся в явь. Где-то размыло границу, что-то сломалось в этом мире, в этом городе. И он — он падает, падает в щель этой улицы, ведущей в никуда…