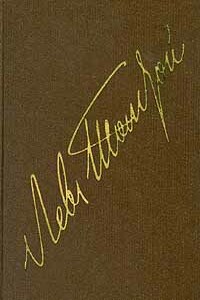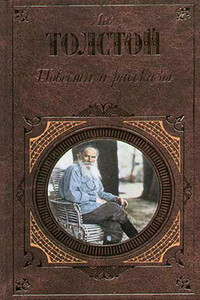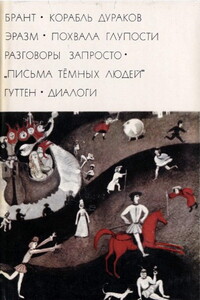Толстой стремится понять силу народа, который разбил Наполеона. Он пишет великое произведение, но только в конце его вводит крестьянина Платона Каратаева.
Толстой всю жизнь собирался написать роман, главными героями которого были бы крестьяне, учился для этого по-новому смотреть на природу. Создавал связь сюжетов, в которых барин, очень часто декабрист, оказывался в одном положении с крестьянами, но это произведение так и не было Толстым создано, причины этого видны и в «Войне и мире».
Толстой знал крестьянскую Россию; он вырос в Ясной Поляне, жил два года восемь месяцев на Кавказе среди казаков, ходил с походами волонтером, сидел у солдатского костра; видал солдат в Севастополе.
Толстой дал классификацию солдатских характеров в докладной записке, написанной одновременно с «Севастопольскими рассказами». Характеристики даны так, что мы видим положение солдата в старой армии. Толстой писал: «Правила чести старинного воинства стали барьерами слишком высокими, которые мы привыкли проходить, нагибаясь под ними» (4, 285).
Дальше в докладной записке написано:
«…солдат существо, движимое одними телесными страданиями, солдат существо грубое, грубеющее еще более в сфере лишений, трудов и отсутствия оснований образования, знания образа правления, причин войны и всех чувств человека».
Конечно, солдат 1812 года знал, стоя на Бородинском поле, цели войны, но в Платоне Каратаеве нет черт профессионального солдата старой русской армии, и он про войну не говорит.
Платон Каратаев именно не солдат, и это подчеркнуто в романе, хотя Толстой и отмечает, что «Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом».
Считая, что Платон Каратаев сдан на службу приблизительно двадцати одного года, видишь, что он пробыл на службе больше двадцати пяти лет. Значит, он участвовал в походах восьмидесятых годов XVIII века, по времени мог бы быть солдатом суворовской школы.
Русский же солдат эпохи походов Суворова был хорошо обучен, инициативен и понимал свой маневр.
Но Толстой сообщает только, что Платон Каратаев «неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был».
Появился этот образ в конце «Войны и мира», в описании пути русских пленных, идущих за отступающей армией Наполеона.
Уже определился весь строй произведения, сложились его противопоставления, но Толстой встретил в них новые трудности, именно в главах с Каратаевым.
«Пятый том начал понемногу подвигаться», — писал Толстой П. И. Бартеневу 20 августа 1868 года (61, 205).
Легко, как заранее предусмотренное, появилось светское толкование истории в салоне А. П. Шерер. Идут главы о Николае Ростове в Воронеже и о Ростовых в Троицкой лавре.
Близится изображение победы. Заново проверяется, как изменились герои, прошедшие через испытание войны.
Труднее всего дались Толстому главы о том, как изменился Пьер в плену.
В третьей редакции плена появляется образ Платона Каратаева. Каратаев перестраивает сознание Пьера своей народной мудростью.
Сцена казни невинных людей, объявленных поджигателями, сламывает Пьера:
«С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора».
Пропала вера в «благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога».
Очнулся Пьер, увидав разувавшегося Каратаева. Он увидел и, как ему показалось, понял основы иного, народного, не государственного и не личного самосознания.
Образ Платона Каратаева отличается от других образов, созданных Толстым, и само собой возникает вопрос о происхождении этого типа.
Образ построен на одной черте, последовательно проведенной: черта эта — «круглость», «законченность» и «спорость».
Про Каратаева сказано: «аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки…» и дальше: «Пьеру чувствовалось что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях…»
В следующей главе мы читаем: «Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие, нежные глаза были круглые».
Каратаев дал Пьеру возможность понять иное мироощущение, не основанное на злой пружине власти и жестокости.
Каратаев «не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие были проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал».
Каратаев говорит изречениями, которые сам не замечает и даже не может повторить: «Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность».