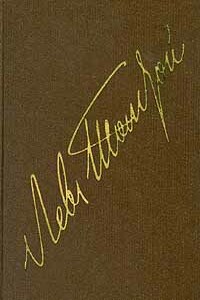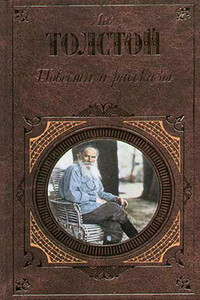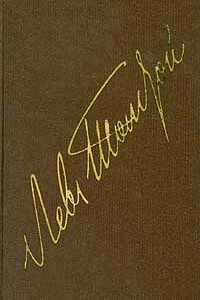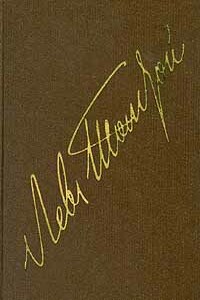Далек от окончательного варианта образ Пьера Безухова, то же самое следует сказать об Анне Павловне Шерер, княгине Друбецкой, вызывавших в начале работы над романом очевидную симпатию автора. Даже Наташа Ростова в первых черновых вариантах порой мало чем напоминает ту «волшебницу», какая появится со временем на страницах романа. В многочисленных набросках, с бесконечными авторскими поправками, перед нами и вырисовывается этот кропотливый, упорный, напряженный труд величайшего художника мировой литературы.
Известна усиленная правка Толстым гранок «Войны и мира». П. И. Бартенев, который вел корректуры романа, ужасался тому, как безжалостно Толстой «колупает», казалось бы, окончательно отшлифованный текст. Но это было то самое необходимое толстовское «чуть-чуть», что шло, по словам Толстого, «в великую пользу» роману. «То именно, что вам нравится, — отвечал он, — было бы много хуже, ежели бы не было раз пять перемарано» (т. 01, с. 176). На этой последней стадии работы особенно важно было знаменитое толстовское «искусство вычеркивать» написанное, исключать лишнее. Толстой активизировал воображение читателя, стремясь к тому, чтобы каждый мог «перенести на себя» изображаемое. «Когда его читаешь, — говорил Стефан Цвейг, — кажется, что ничего другого не делаешь, как смотришь через открытое окно в действительный мир»[151]. А Горький, отдавая дань восхищения мастерству Толстого, замечал, что образы его так пластичны и «почти физически ощутимы», что рука невольно тянется «тронуть» их пальцем, до такой степени чувственно-реально они нас волнуют.
Толстой выступил в своем романе как подлинный «художник жизни», если воспользоваться его же собственным определением, найденным им позднее для другого русского гения — А. П. Чехова. Он всегда стремился идти от факта, наблюдаемого им в действительности или известного ему по свидетельствам очевидцев из различного рода документальных источников. Но одной из важнейших опор творческой фантазии автора «Войны и мира» были его непосредственные впечатления. «Война и мир» в этой отношении — явление уникальное. Мельчайшие детали описаний и общая идейная концепция романа — все здесь пронизано жизненным опытом автора. Граф Лев Толстой, боевой артиллерийский офицер, наблюдая своих солдат в кавказской и севастопольской военных кампаниях, постоянно подвергаясь сам смертельной опасности, не исчерпал этих впечатлений в своем творчестве 50-х годов. Их прочно удерживала в себе долгие годы его память, отличавшаяся необычайной точностью.
В 1864 году, в самый разгар работы над «Войной и миром», он пишет брату жены А. А. Берсу — и в сознании его мгновенно всплывает время далекой поры молодости: «…кажется, что самое-то счастье состоит в том, чтоб было 19 лет, ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать папироску, тыкая в пальник, который подает 4-й № Захарченко какой-нибудь, и думать: коли бы только все знали, какой я молодец!» (т. 61, с. 57). Давно пережитое и испытанное вновь воскрешается в памяти с поразительной отчетливостью деталей, как живая картина, окрашенная юношески непосредственным чувством, полная характерных, конкретных подробностей.
Своеобразным хранилищем пережитых впечатлений, продуманных, отстоявшихся идей и мыслей был у Толстого Дневник. Работая над «Войной и миром», Толстой возвращался к дневниковым записям, не только 60-50-х, но даже 40-х годов, времени его молодости, в поисках психологических подробностей, отдельных деталей описаний, в создании сюжетных ситуаций и т. п. Здесь принималось во внимание все — вплоть до его размышлений об искусстве и писательском творчестве, перевоплощающихся в плоть и кровь характеров героев[152].
Обращает на себя внимание одна из страниц Дневника молодого Толстого. «После ухода Андропова, — записывает он 7 июля 1854 года, — я облокотился на балкон и глядел на свой любимый фонарь, который так славно светит сквозь дерево. Притом же после нескольких грозовых туч, которые проходили и мочили нынче землю, осталась одна большая, закрывавшая всю южную часть неба, и какая-то приятная легкость и влажность в воздухе. Хозяйская хорошенькая дочка так же, как я, лежала в своем окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, я когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно-хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свои фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева, на дерево, на забор, на небо, и все это мне казалось еще лучше, чем прежде» (т. 47, с. 9). Нельзя не вспомнить, читая эти строки Дневника, знаменитую сцену у окна в Отрадном в романе «Война и мир».
Нередко в одной фразе или художественной подробности оказывались сведены воедино впечатления, почерпнутые писателем из окружающей действительности, безотносительно к замыслу будущего произведения, и сознательно отобранные в период непосредственной работы над романом. В Дневнике 1857 года встречаете краткое замечание: «Вдруг поехал в Шафгаузен. Дор