ВОВа - [5]
Немец тогда стремительно наседал. Отец, вступив в ополчение, голову за свой город, за Севастополь, сложил. А Ваня с сестрой, братом и матерью успел за море удрать, на Кавказ. Здесь, прямо из-за парты, в армию его и забрили — вместе со всеми парнями десятого класса. Солдатскую форму на плечи, на пояс подсумок с патронами, в руки — винтовку — и топай, мальчишки, на передовую, на фронт. Замели, кто попался, и других по пути. К заданному рубежу подошли на пятые сутки. Сталин как раз отдал знаменитый 209-й приказ. Сам комполка зачитал его перед строем: все, хватит, — дальше некуда отступать! Почти половина республик, всего населения страны уже под пятою врага, множество заводов и фабрик, пастбищ и хлебных полей, нефть, уголь, руда… Приказываю: не взирая на лица, на ранги, любого, кто отступит хотя бы на шаг, тут же, на месте стрелять! Ни шагу назад!
И только зачитали приказ, сразу же вывели и поставили перед развернутым полком заросшего черной щетиной солдатика, едва стоявшего на ногах, босого, без пояса, мешком штаны на дрожавших ногах. Он и сам-то был, как порожний мешок: обвис весь, руки болтались плетьми, пустыми глазами уставился тупо в пространство. Местным, из ближайшего горного аула оказался приговоренный к расстрелу. Второй раз уже пытался бежать. По дороге в горы, домой и прихватили его. И каждому солдату наглядный урок — перед полком и прикончили.
На второй день вывели перед строем еще одного, мальчишку, такого же, как и сам Ваня, в ржавых веснушках, белобрысенького и, как палка, худого. И за то его только, что подобрал и спрятал в красноармейской книжке вражеский ядовитый листок.
С первого же дня (только погнали колонну на передовую) нет-нет, да и налетали то «мессеры», то «юнкерсы», а то и странная — две палки и крыло поперек — разведывательная фашистская «рама». Эта повыше обычно, под самыми тучами шла, а первые — пронесутся на бреющем вдоль всего растянувшегося по полю полка, а он врассыпную, проревут, страх нагоняя, моторами, прострочат пулеметами, да под завязку еще бомбы с листовками понакидают на головы — и айда поскорей наутек. Наши тоже ведь, пусть из винтовок только, а огрызались.
Как удержаться, не подобрать вражеский цветастый «папир»? Вот солдатик, видать, и сунул бумажку в карман. А кто-то, больно уж преданный, должно, и донес. И запустил бездушный свой механизм особист. И расстреляли мальчишку — полку остальному в пример.
Подбирал из любопытства листовки, случалось, и Ваня. И слушая, что читал Бугаенко о роковых просчетах Главнокомандующего, сразу вспоминал небольшую газетенку добровольческой освободительной армии генерала-предателя Власова — «Боевой путь», а под названием жирным шрифтом расшифровка СССР: «Смерть Сталина спасет Россию!» Или как наш ярко раскрашенный, с тараканьими усами вождь, оседлав табуретку, уныло тянет под балалайку: «Последний нонешний денечек», а бравый Гитлер, развалившись в кресле и растягивая, насколько возможно, гармонь, во всю глотку орет: «Широка страна моя родная».
Солдаты остерегались эту пакость даже для подтирания задницы, под табачок нарезать. Обходились для этого своей армейской газетой. В одном из ее номеров, в набранном крупным заголовочным шрифтом слове «Главнокомандующий» вторая буква — «л» — была пропущена, и получилось — «Гавнокомандующий». Номер этот тут же всполошенно у солдат отобрали, сожгли у всех на глазах и объявили, что за враждебную вылазку редактор и редакционный секретарь расстреляны, а остальные газетчики отправлены в штрафной батальон.
И Ваня так был всем этим диким, жестоким подавлен, что, оказавшись наутро носом к носу с лютым врагом, не ненавистью к нему пламенел, а униженно маялся страхом, совершенно неподготовленным себя перед ним ощущал. Из карабина даже ни разу не выстрелил (не дали, не хватало патронов), а уж из пушки (при одном-то единственном ящике снарядов) и вовсе. И потому, весь трясясь лихорадочно и ошалев от отчаяния, только выкатил с расчетом своим «хлопушку» на огневую позицию, только выпустил Ваня два драгоценных снаряда, норовя в фашистский пулемет угодить (а они за молоком куда-то ушли), как тут же немецкой миной их и накрыло. Половины расчета как не было. Ваню контузило. И пришел он в себя, перестал, как паралитик, головой и руками трясти только через несколько дней. И опять за прицел, но уже не нашей, отечественной, а немецкой, трофейной пушки, потому как своей родненькой, русской поблизости нигде не нашлось.
«Так вот почему нам досталось тогда. Всем досталось… Народу всему, всей стране. А могло и не быть, — открывал для себя Ваня, слушая, как первый горкомовский секретарь читал секретный документ о двадцатом съезде партии. И внимая ему, пытался постигнуть логику Сталина. — Ну ладно, в войну… Можно понять — по дурости миллионы людей загубил. А в мирные дни? Что же, выходит, ни за что ни про что, злонамеренно со свету сживал? И кого? Прошедших гражданскую войну, проверенных, опытных военачальников. И неужто не мучила совесть, страх за обезглавленную армию не испытывал?»
Бугаенко уже читал о всесильном в ту пору министре внутренних дел. Его портрет с ядовитой ухмылкой на тонких, как пиявки, губах, с пенсне на стылых змеиных глазах никому из редакционных работников еще не забылся: совсем недавно в этом же зале вместе с другими висел на стене. И Ваня почувствовал, что правый глаз и щека у него легонько, чуть ощутимо задергались. Настолько легонько, что не поверил сперва. Но нет, не ошибся: щека и правое веко все-таки дергались. Впервые это в детстве поразило его, когда едва в бухте не утонул: захотел, дурачок, ее переплыть. Постепенно прошло. При опасностях и потрясениях возобновлялось. Затер, затер ладонью глаз и щеку. А с трибуны неслось… Министр, оказывается, ко всему прочему, был еще и очень охочим до баб и буквально организовал за ними охоту. Выбирал самых юных, прекрасных и все менял и менял приглянувшихся ему девочек, девушек, женщин. И вел им, всем этим наложницам, жертвам, строгий учет: регистрировал в своем маленьком тайном блокнотике. Из него и стало достоверно известно, что до кругленькой цифры — трехсот! — ему не хватило сущего пустяка. И добрать помешала внезапная кончина диктатора, а за ней и его, сатрапа, запоздавшая справедливая казнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Трилогия участника Отечественной войны Александра Круглова включает повести "Сосунок", "Отец", "Навсегда", представляет собой новое слово в нашей военной прозе. И, несмотря на то что это первая книга автора, в ней присутствует глубокий психологизм, жизненная острота ситуаций, подкрепленная мастерством рассказчика.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.

Книга посвящена путешествию автора по Забайкалью и Дальнему Востоку в 60-е годы XIX в. Внимательным взглядом всматривается писатель в окружающую жизнь, чтобы «составить понятие об амурских делах». Он знакомит нас с обычаями коренных обитателей этих мест — бурят и гольдов, в нескольких словах дает меткую характеристику местному купечеству, описывает быт и нравы купцов из Маньчжурии и Китая, рассказывает о нелегкой жизни амурских казаков-переселенцев. По отзывам современников Стахеев проявил себя недюжинным бытописателем.
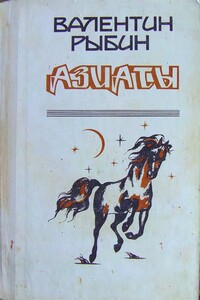
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стефан Цвейг — австрийский прозаик, публицист, критик, автор множества новелл, ряда романов и беллетризованных биографий. В 1920-х он стал ошеломляюще знаменит. Со свойственной ему трезвостью Цвейг объяснял успех прежде всего заботой о читателе: подобно скульптору, он, автор, отсекал лишнее от первоначального текста, превращая его в емкую небольшую книгу.Перевод с немецкого П. С. Бернштейна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.