«Воскресение и жизнь…». Пасхальная проза русских классиков - [11]
У нас в России эта вечерня первого дня Пасхи проходит для большинства едва замеченной; на Востоке, напротив того, на нее собирается столько же народа, сколько и на самую заутреню, иногда еще и более, потому что за этой службой, не слишком продолжительной и совершающейся в очень удобное время дня, происходит нечто крайне любопытное, нечто такое, что может привлечь из одного любопытства и вовсе не богомольного человека: это – чтение Евангелия на разных языках.
Известно, что на эту вечерню положено читать то Евангелие от Иоанна, в котором повествуется о втором явлении воскресшего Спасителя всем собравшимся ученикам, за исключением апостола Фомы, который, возвратясь потом, впал в сомнение и сказал, что он не поверит этому до тех пор, пока не вложит пальцев своих в раны Христа. (Первое явление было Марии Магдалине.)
Вот почему на Востоке вошло в народный обычай называть эту службу Второе воскресение (то есть Второе явление). На каких языках должно читать Евангелие, конечно, не определено и не должно быть определяемо. Читать можно на всех – и на знакомых большинству, и на незнакомых. И то и другое производит сильное впечатление. На языке понятном приятно следить за мыслью уже хорошо знакомой по родному языку; наречие непонятное поражает иначе – как нечто полутаинственное и странное. Читают на тех языках, на которых в данной местности есть возможность читать: на греческом, конечно, прежде всего, на славянском, на турецком, армянском, албанском, иногда и на арабском или латинском. На французском или итальянском очень редко. Оба эти языка очень распространены в торговом классе, преобладающем в светской среде христиан; но между духовными лицами мало можно встретить людей, хорошо говорящих или читающих правильно на этих «живых» языках Запада. У меня есть греческая маленькая книжка, изданная в 1870 году в Константинополе. В ней помещены субботняя служба у Плащаницы, последование часов Великой субботы и двенадцать Евангелий на разных языках для той Пасхальной вечерни, о которой я пишу. Первым, разумеется, в греческом издании поставлено обыкновенное Евангелие на греческом языке. Потом следует то же место (о втором явлении собранным ученикам) в эллинских стихах (героическим гекзаметром, как сказано в книжке); третьим идет ямбическое греческое переложение того же; дальше – по-«славянорусски» («славороссисти»), потом на новоболгарском языке, дальше по-албански, по-латыни, по-итальянски, по-французски, по-арабски, по-турецки и по-армянски.
В разных городах случалось мне слышать и разные языки; это зависит от того, на каких языках могут читать люди местного духовенства, находящиеся в этот день налицо. Я был на этой вечерне в Янине, в Адрианополе, в Константинополе (в Халкинской богословской семинарии) и на Афоне.
Хорошо было везде; но на острове Халки было лучше, чем в провинциальных соборах; а на Святой Горе, в греко-русском монастыре Св. Пантелеймона, было лучше всего.
Заутреню и раннюю обедню мы слушали в бывшей домовой Покровской церкви, которая устроена русской братией в верхней по местоположению (в восточной) части обширной обители, расположенной, как я уже сказал, на склоне горы к морю.
Вечерню воскресную служили вместе с греками внизу в главной церкви или в соборе, воздвигнутом, как и все афонские соборы, посредине мощенного плитами двора.
Это уже одно много значило.
В домовой русской церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, кроме иконостаса и утвари, изящной и богатой, ничего нет замечательного. Эта церковь обширна, зимой тепла, удобна, ход в нее прямой из теплого коридора гостиницы – и только. Это очень большая зала с белыми штукатурными стенами, с длинным рядом обыкновенных (четырехугольных) больших окон, из которых вид на нижнюю (греческую) половину монастыря, на море и всегда темную полосу полуострова Кассандры – несколько уныл, но не лишен величия. Кругом стен – «стасидии» с ручками и откидным «сиденьем», для стояния и отдыха монахам и богомольцам.
Несколько таких же мест, но более почетных, для гостей большого чина или звания – посреди пустой залы у штукатуренных колонн. Удобно, чисто, просторно, бело; но красоты или величия искать тут не надо. Один иконостас, говорю я, очень хорош. Я готов сказать даже и больше этого: я готов назвать его прекрасным. Он очень своеобразен; он как-то изящно-тяжел, в меру пестр и в меру одноцветен.
Он не высок, весь сплошной золоченый; размеры его несколько тяжелы, орнаменты несложны, не кудреваты, строги. Царские врата тоже низки и очень просторны, большие местные иконы только в один ряд, и лики в естественную величину человеческого образа. Если мне не изменяет память, этих икон всего четыре: Спаситель, Божия Матерь, «патрон» монастыря св. Пантелеймон, которого глава хранится внизу у греков, и русский святитель Митрофаний, принесенный нашими на Афон. Все эти иконы превосходной троице-сергиевской чеканной работы. На тонко-узорном золотом поле выделяются в высшей степени изящно вполне человеческие по цвету лица, но по выражению – иконописно, таинственно покойные образы Учителя-Бога, Девы с Младенцем Христом, прекрасного юноши-мученика и седого преподобного старца. Одежды Спасителя – голубая и розовая и св. Пантелеймона – малиновая с зеленым – прелестны своей яркостью посреди сплошной, одноцветной позолоты. Что касается до лика Самого Христа, то я ни прежде, ни после не видал ничего лучшего. Это – икона высокого стиля, а не картина. Нечто прекрасное и мужественное, и молодое, немного бледное, идеальное, тихое, покойное, и вместе с тем что-то тонко-национальное, семитическое, как бы для большей исторической наглядности, для реальности хорошей, счастливой в смысле возбуждения, положительной веры.

Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джоржа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.http://rulitera.narod.ru.

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не пиcал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».

«Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, и на концертах нас провожали взглядами.» И была любовь, он любовался, она удивляла. Каждый день он открывал в ней что-то новое. Друзья завидовали их счастливой любви. Но однажды утром она ухала в Тверь, а через 2 недели он получил письмо: «В Москву не вернусь…».

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.

Случайная встреча отставного русского офицера и русской же официантки в русской столовой на улицах Парижа неожиданно принимает очертания прекрасной истории о любви!

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна – одна из лучших повестей о любви в литературе русской и, наверное, мировой. Это гимн любви жертвенной, безоглядной и безответной – той, что не нуждается в награде и воздаянии, а довольствуется одним своим существованием. В одном ряду с шедевром Куприна стоят повести «Митина любовь» И. А. Бунина, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Ася» И. С. Тургенева и «Старосветские помещики» Н. И. Гоголя, которые также включены в этот сборник.
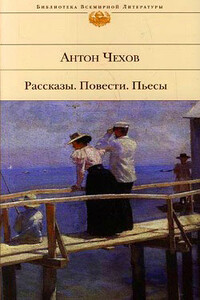
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
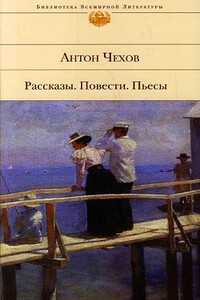
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
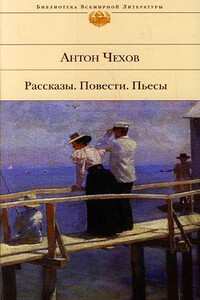
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.