Волшебник. Solus Rex - [4]
Волшебник
>Повесть
«Как мне объясниться с собой? – думалось ему, покуда думалось. – Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, чтó бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность, – ибо и в мыслях допустить не могу, что причиню боль или вызову незабываемое отвращение. Вздор, – я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей… (не просто безопасность, а права одичания, или это – порочный круг, с пальмой в центре?). Рассудком зная, что евфратский[16] абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опошлить то, что иначе ему не дается… Сбрасываю и поднимаюсь выше. Чтó, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня, – сколько их на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках, – такие мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному – сырая женщина-друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, по-простому, – знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова, и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому, – очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или то – редкое цветение этого в Иванову ночь моей темной души, – потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств – если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно, – и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».
Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате – тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы, – и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все-таки – милость) и печальной усмешкой (все-таки – жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища – сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами, – он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно, чтобы линии начинали дрожать и таять, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой – и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца, – колотьба в груди, – «а щекотки боишься?», – или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, инкуба[17] так и не заметивших, он поражался своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада обрывалась беспечным поворотом жизни.
Худощавый, сухогрубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишье.

В 1955 году увидела свет «Лолита» — третий американский роман Владимира Набокова, создателя «Защиты ужина», «Отчаяния», «Приглашения на казнь» и «Дара». Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину литературного Олимпа и стала одним из самых известных и, без сомнения, самых великих произведений XX века. Сегодня, когда полемические страсти вокруг «Лолиты» уже давно улеглись, южно уверенно сказать, что это — книга о великой любви, преодолевшей болезнь, смерть и время, любви, разомкнутой в бесконечность, «любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда».В настоящем издании восстановлен фрагмент дневника Гумберта из третьей главы второй части романа, отсутствовавший во всех предыдущих русскоязычных изданиях «Лолиты».«Лолита» — моя особая любимица.

Гениальный шахматист Лужин живет в чудесном мире древней божественной игры, ее гармония и строгая логика пленили его. Жизнь удивительным образом останавливается на незаконченной партии, и Лужин предпочитает выпасть из игры в вечность…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Дар» (1938) – последний русский роман Владимира Набокова, который может быть по праву назван вершиной русскоязычного периода его творчества и одним из шедевров русской литературы ХХ века. Повествуя о творческом становлении молодого писателя-эмигранта Федора Годунова-Чердынцева, эта глубоко автобиографичная книга касается важнейших набоковских тем: судеб русской словесности, загадки истинного дара, идеи личного бессмертия, достижимого посредством воспоминаний, любви и искусства. В настоящем издании текст романа публикуется вместе с авторским предисловием к его позднейшему английскому переводу.

Роман, задуманный Набоковым еще до переезда в США (отрывки «Ultima Thule» и «Solus Rex» были написаны на русском языке в 1939 г.), строится как 999-строчная поэма с изобилующим литературными аллюзиями комментарием. Данная структура была подсказана Набокову работой над четырехтомным комментарием к переводу «Евгения Онегина» (возможный прототип — «Дунсиада» Александра Поупа).Согласно книге, комментрируемая поэма принадлежит известному американскому поэту, а комментарий самовольно добавлен его коллегой по университету.

Свою жизнь Владимир Набоков расскажет трижды: по-английски, по-русски и снова по-английски.Впервые англоязычные набоковские воспоминания «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство») вышли в 1951 г. в США. Через три года появился вольный авторский перевод на русский – «Другие берега». Непростой роман, охвативший период длиной в 40 лет, с самого начала XX века, мемуары и при этом мифологизация биографии… С появлением «Других берегов» Набоков решил переработать и первоначальный, английский, вариант.
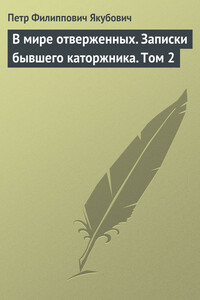
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
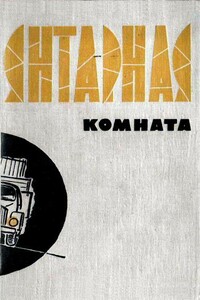
Романтические приключения в Южной Америке 1913 года.На ранчо «Каменный столб», расположившееся далеко от населенных мест, на границе Уругвая и Бразилии, приезжают гости: Роберт Найт, сбежавший из Порт-Станлея, пылкая голова, бродит в пампасах с невыясненной целью, сеньор Тэдвук Линсей, из Плимута, захотевший узнать степную жизнь, и Ретиан Дугби, местный уроженец, ныне журналист североамериканских газет. Их визит меняет скромную жизнь владельцев ранчо…
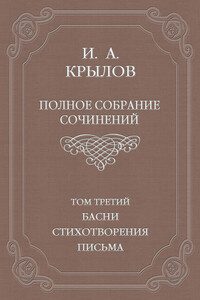
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
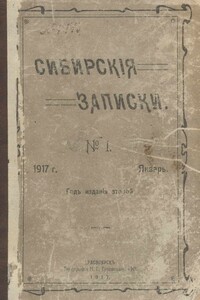
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.
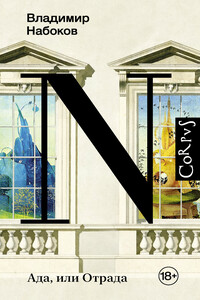
«Ада, или Отрада» (1969) – вершинное достижение Владимира Набокова (1899–1977), самый большой и значительный из его романов, в котором отразился полувековой литературный и научный опыт двуязычного писателя. Написанный в форме семейной хроники, охватывающей полтора столетия и длинный ряд персонажей, он представляет собой, возможно, самую необычную историю любви из когда‑либо изложенных на каком‑либо языке. «Трагические разлуки, безрассудные свидания и упоительный финал на десятой декаде» космополитического существования двух главных героев, Вана и Ады, протекают на фоне эпохальных событий, происходящих на далекой Антитерре, постепенно обретающей земные черты, преломленные магическим кристаллом писателя. Роман публикуется в новом переводе, подготовленном Андреем Бабиковым, с комментариями переводчика. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.