Волны - [63]
Луис так же властно заявлял о себе, когда опускался на траву и тщательным квадратом (я не преувеличиваю) расстилал под собой макинтош. Это было ужасно. У меня хватало ума оценить его цельность; своими из-за вздутых суставов перебинтованными пальцами он откапывал сокровище нерастворимой правды. Я зарывал целые коробки жженых спичек в траве у его ног. С ухмылкой, хлестко, он обличал мою лень. Он меня пленял своим низким воображением. Его герои были все в котелках и беседовали про то, что уступают за десятку свои пианино. В его пейзажах визжал трамвай; ядовито дымила фабрика. Ему не давали покоя богом забытые городки, закоулки, где пьяные бабы валяются, нагишом, на подстилках в рождественский день. Его слова падали из бойницы на воду и взбивали ее фонтаном. Он нашел одно слово, одно-единственное - для луны. Потом он встал и ушел; мы все встали; мы все ушли. Но я остановился, оглянулся на иву, и когда я осенью оглянулся на эти огненные, на эти рыжие ветки, какой-то осадок образовался; образовался я; выпала капля; я выпал - то есть возник в итоге некоего завершенного опыта.
Я встал и ушел - я, я, я - не Байрон, не Шелли, не Достоевский, но я, Бернард. Я даже несколько раз повторил свое имя. Я вошел, играя стеком, в какую-то лавку и купил - не то чтобы я любил музыку - портрет Бетховена в серебряной рамке. Не то чтобы я любил музыку, но вся жизнь, ее мастера, ее смельчаки вдруг выстроились за мной великолепным строем; и я был наследник; я - преемник; я - чудодейственно предназначен их продолжать. Так, играя стеком, с отуманенным, нет, не гордостью, скорее застенчивой скромностью взглядом, шел я по улице. Да, взмыл этот первый гул крыл, сладкий свист, переливы; и вот ты входишь; входишь в дом, строгий, с правилами, обжитой дом: традиции, нажитый хлам и разложенные напоказ сокровища. Я навещаю нашего семейного портного, который еще дядю моего помнил. Выплывает дикая уйма лиц, но не четких, как те, первые лица (Невил, Луис, Джинни, Сьюзен, Рода), нет, эти смутны, лишены черт, то есть черты эти так быстро меняются, будто отсутствуют вовсе. И, краснеющий, но надменный, в диком каком-то состоянии - дурацкий восторг, подозрительность, все вперемешку, - я принимаю удар; спутанные ощущенья; они ставят в тупик, выбивают из колеи; и куда мне бежать от напора, наката жизни - вдруг, по всем статьям. Какая мука! Как унизительно - не знать, что сказать дальше; и эти ужасные паузы, зияющие, как сухие пески, где каждый камешек выпирает; и потом что-то ляпнуть, когда надо бы промолчать, и чувствовать, как в горле шомполом застряла неподкупная искренность, которую с такой бы радостью разменял на груду медяков, но нельзя, здесь, на этом приеме, где Джинни совершенно в своей тарелке и со своего золоченого стула распускает лучи.
Потом какая-то дама с властным жестом: "Пойдемте со мной". Тебя ведут в укромный уголок, дарят своим доверием. Фамилии сменяются на имена; полные имена - на уменьшительные. Что нам делать с Индией, Ирландией и Марокко? Почтенные старцы отвечают на этот вопрос, стоя в регалиях под канделябрами. Вдруг набираешься информации, делаешься посвященным. Снаружи кипят неудоборазличимые бури; мы же четки, внятны, мы поистине здесь, в нашем узком кругу делаем погоду, всегда. Зимою и летом. И нарастает на нежной душе раковина, перламутровая, блестящая, и не пробить ее клювикам чувств. Я покрылся ею раньше многих. Скоро я уже мог обстоятельно чистить грушу, когда все давно покончат с десертом. В полной, внимательной тишине округлять свою фразу. Но в этом возрасте так еще приманчиво совершенствованье. Хорошо бы, кстати, испанский выучить - такие мысли, - заставить себя рано вставать, и вся недолга. Твоя записная книжка плотно исписана: званый ужин в восемь; в полвторого обед. Рубашки, носки, галстуки в готовности ждут на постели.
Словом, предельная точность, четкий воинский шаг; но какие всё это глупости; все условность, ложь. Всегда, в глубине, даже когда минута в минуту, с предписанными учтивостями и в белых жилетах мы являемся на прием, бурлит под нами поток и вертит обрывки снов, считалок, уличных выкликов, недоваренных фраз, смазанных видов - вязы, ивы, метут садовники, женщины пишут - и поток взбухает, опадает даже тогда, когда на званом обеде ведешь свою даму к столу. Пока ты с такой старательностью выравниваешь на скатерти вилку, тебе улыбаются, хмурятся тысячи лиц. Тут нечего вычерпать ложкой; ничего не назвать событием. И однако - он живой и глубокий - этот поток. В него окунешься и вдруг замираешь между двумя глотками и смотришь, смотришь на вазу с одним, может быть, красным цветком: вдруг стукнуло что-то, осенило, открылось. Или, гуляя по Стрэнду, вслух говоришь: "Так вот какой фразы мне не хватало!", когда баснословно прекрасная птица, рыба или облако с огненной оторочкой вдруг всплывут, чтобы раз навсегда унять неотвязную мысль, после чего бодро рысишь дальше и с обновленным увлечением изучаешь галстуки и прочую прелесть в витринах.
Этот хрустальный шар, этот, так сказать, глобус жизни, будучи отнюдь не холодным и твердым на ощупь, имеет стенки из тончайшего воздуха. Надавишь - и все разлетится. Какое бы сужденье я ни вытащил в целости и сохранности из котла - всегда это всего только связка из шести маленьких рыбок, которые ловятся, тогда как миллионы других прыгают, обжигают, заставляют котел бурлить, как кипящее серебро, и ускользают у меня между пальцев. Встают лица лица, лица, лица, - прижимают свою красоту к стенкам мыльного моего пузыря Невил, Сьюзен, Луис, Джинни, Рода и много, много кого еще. И невозможно их распределить по ранжиру; одно какое-то выделить, передать воздействие сразу всех - тут ведь опять музыка! Какая тут симфония вырастала, с ее ладом, разладом, тонкой мелодией, всплывавшей на сложных басах! Каждый вел свою партию, скрипка, флейта, труба, барабан, ну какие там еще есть инструменты. С Невилом это было: "Поговорим о Гамлете". С Луисом - о науке. С Джинни про любовь, а потом вдруг, в минуту отчаяния, плюнуть на все и - в Камберленд, с одним тихим человеком, и - целая неделя в гостинице, и дождь хлещет по стеклам, и на обед баранина, баранина, баранина - сплошь. И все равно эта неделя останется твердым камешком в вихре неопознанных впечатлений. Это тогда мы играли в домино; тогда ругались из-за жесткой баранины. И потом мы бродили в горах. И девчушка, робко заглянув в дверь, сунула мне письмо на синей бумаге, и я из него узнал, что та женщина, которая сделала меня Байроном, выходит замуж за сквайра. Мужлан в гетрах, мужлан с хлыстом, и разглагольствует про жирного быка за обедом, - я заорал презрительно и глянул на мчащие тучи, осознал свое поражение; желание остаться свободным; бежать; чтоб меня не пустили; положить конец; продолжать; быть как Луис; быть самим собой; и я, один, выскочил в дождевике, и вечные холмы на меня нагоняли тоску, а никакой не торжественный дух; и я вернулся, разбранил баранину и сложил чемодан; и - опять в этот вихрь; на это мученье.

Русский перевод эссе Вирджинии Вулф о женщинах в литературе — "A Rome of One's Own". В основу эссе легли два доклада, с которыми писательница выступила в октябре 1928 года перед студентками английских колледжей.
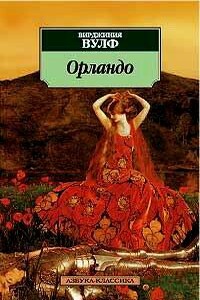
Вирджиния Вулф – признанный классик европейской литературы ХХ века. Ее романы «Комната Джейкоба», «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», «Волны» выдержали множество переизданий. О ней написаны десятки книг, тысячи статей. В настоящем издании вниманию читателей предлагается роман «Орландо», необычный даже для самой В. Вулф. О чем эта книга, получившая всемирную известность благодаря блестящей экранизации? Романтизированная биография автора? Фантазия? Пародия? Все вместе и не только. Эта книга о безжалостном времени, о неповторимости мгновения, о томительных странностях любви, о смерти и превратностях судьбы.
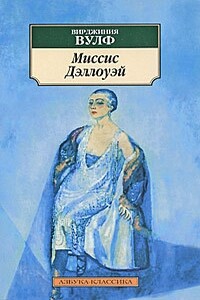
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
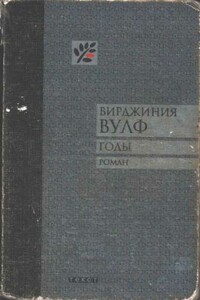
Вирджиния Вулф (1882–1941) — всемирно известная английская писательница, критик и теоретик модернизма. Роман «Годы» — одно из самых значительных ее произведений. Действие разворачивается на протяжении пятидесяти с лишним лет, с 1880 до середины тридцатых годов XX века. В центре повествования — семейство Парджитеров: полковник Эйбел Парджитер, его жена, любовница, семеро детей, их жены, мужья, многочисленные родственники. Конец викторианской эпохи — ломаются традиции британской жизни. Автор пристально наблюдает ход времени и человека во времени: детство, молодость, зрелость, старость…На русском языке издается впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
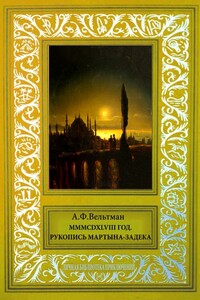
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.