Влюбленный демиург - [8]
По части духовной автономии русский романтизм довольствовался, понятно, более скромными достижениями. Тем не менее интериоризация божественного начала, унаследованная им у масонско-сентименталистского мировосприятия, в России тоже стала одной из основ преромантической и романтической религиозности. Как резонно подчеркивает Лагутина, анализируя эволюцию духовной оды, уже в 90-х гг. XVIII в. «классицистический дискурс с его вниманием к ветхозаветному Богу-творцу сменяется сентименталистскими идеалами с культом новозаветного Бога любви». В тогдашней поэтической культуре вообще «ощущается потребность в создании образа “страдающего” и “сострадающего”, человечного Бога – Иисуса Христа», а Карамзин в своей «Песни Божеству» (1794) отождествляет этого ветхозаветного Творца с Богом любви, «Отцом чувствительных сердец»[44].
Подобным сдвигам всячески способствовали, естественно, и литературные конвенции руссоистского или смежного толка, надолго закрепившиеся также в культуре александровского периода. Конечно, культ блаженного уединения – особенно на лоне натуры, в сельском «приюте», – сплошь и рядом обретал антично игровой колорит, увязываясь с темой «неги», задушевного застолья, «дружества» и т. п. («Мои пенаты»). Но, с другой стороны, он столь же органично смыкался и с идеалом «внутренней церкви», обращая мысли и «чувствия» растроганного мечтателя к родникам, бьющим из недр его собственной души. Внутренняя церковь одомашнивалась в обличье «смиренной хижины».
Пасторальным сентиментализмом подсвечена была гимназическая юность М. Максимовича – гоголевского земляка, друга Погодина и любомудров. В свободное время он гулял по родным полям, собирая флору, – ибо «рано развилась в душе его любовь к природе и поэтическое настроение»[45]. Первая со временем претворится в ботанику, а второе – в усердное собирание украинских песен; и то и другое будет согрето умилением перед благостью Создателя, разлитой во всем творении.
Пример Максимовича – один из многих, доказывающих, что гонения на пиетизм и межконфессиональную теософию, сменившие к концу александровского царствования прежнее их господство, практически никак не сказались на духовных предпосылках новой, романтической культуры. Как обычно, грандиозным исключением и здесь оставался Пушкин, который с самого начала насмешливо третировал александровскую мистику и который превосходно обходился без нее уже в своих ранних сентименталистских опытах. Но со временем он тоже обратится к религиозной топике, кое в чем подсказанной протестантским наследием («Странник», 1835).
Еще в 1830-х гг. сентиментально-пиетистские голоса наивно-идиллического свойства продолжали звучать в массовой литературе с ее несколько архаичной акустикой. Так, в 1833 г. какой-нибудь Алексей Зилов просит не нарушать его заветного уединения: «Дай насладиться жизнью мне Здесь, в хижине, хотя немного, И отыскать во глубине Души моей Творца и Бога!»[46] В отличие от Зилова А. Никитенко не принадлежал к братству «каменщиков», но и его резонирующего героя Леона захватила эта тяга к интериоризации духовного зова. В то же время приподнятую сентименталистскую умиротворенность тот дополняет юнговскими нотами и романтической мизантропией:
Дни мои были мрачны, но тихи и хороши. Я любил размышлять о бедствиях человечества, о суетности его надежд, о тленности вещей земных и самого меня <…> Я ничего не желал, ничего не надеялся [sic] и ничего не страшился [формула, которая потом перейдет к Лермонтову: «Уж не жду от жизни ничего я…»] <…> Я был спокоен потому, что ничего не требовал от людей, и им нечего было отнять у меня <…> Я люблю и теперь места уединенные, где безмолвие и мрак служат как бы преддверием ко святилищу высоких помыслов, сильных и глубоких чувствований, где все мертво, но где голос души звучит для самой себя громче и внятнее в воздухе, не отягченном дыханием людей[47].
О тихом пасторально-спиритуальном затворничестве мечтает время от времени и М. Погодин, человек, в целом чрезвычайно деятельный и общительный. С. Шевыреву он признается в своих письмах: «Как хочется исторгнуться из этого омута и погрузиться в глубину своей души, вдали от людей!» И снова: «Как жаждет душа моя уединения! <…> Там, в тишине и спокойствии, в беседе с природою и мудрыми протекла бы жизнь моя, и творения души созрели бы в душевной глубине»[48].
Данью скрупулезному масонско-пиетистскому самоконтролю был, по сути, сам огромный дневник Погодина (даже в этом аспекте, как и в ряде других, масонский духовный субстрат сближал с ним Льва Толстого, на которого он, по наблюдению Б. Эйхенбаума, оказал весомое воздействие). Подобно многим его современникам, эту верность александровскому наследию Погодин охотно совмещал с православной обрядностью и почитанием «внешней церкви»; но, при всем своем благочестии казенного образца, он продолжал лелеять в душе пиетистские импульсы, увязывая их с влечением к немецкому романтизму, французскому консерватизму и к шеллингианству, впрочем, довольно безличному. «Религию сердца» он держал как бы про запас, в качестве персонального, сверхштатного исповедания.

Русский язык не был родным языком Сталина, его публицистика не славилась ярким литературным слогом. Однако современники вспоминают, что его речи производили на них чарующее, гипнотическое впечатление. М. Вайскопф впервые исследует литературный язык Сталина, специфику его риторики и религиозно-мифологические стереотипы, владевшие его сознанием. Как язык, мировоззрение и самовосприятие Сталина связаны с северокавказским эпосом? Каковы литературные истоки его риторики? Как в его сочинениях уживаются христианские и языческие модели? В работе использовано большое количество текстов и материалов, ранее не входивших в научный обиход. Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.
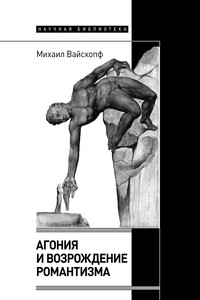
Романтизм в русской литературе, вопреки тезисам школьной программы, – явление, которое вовсе не исчерпывается художественными опытами начала XIX века. Михаил Вайскопф – израильский славист и автор исследования «Влюбленный демиург», послужившего итоговым стимулом для этой книги, – видит в романтике непреходящую основу русской культуры, ее гибельный и вместе с тем живительный метафизический опыт. Его новая книга охватывает столетний период с конца романтического золотого века в 1840-х до 1940-х годов, когда катастрофы XX века оборвали жизни и литературные судьбы последних русских романтиков в широком диапазоне от Булгакова до Мандельштама.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.