Влюбленный демиург - [30]
Статье Максимовича в том же 1836 г. вторит и представитель «низового романтизма» – А. Кульчицкий в повести «Воспоминания юности»: «Не грустит ли сама природа в часы ночные, не скорбит ли она о улетевшем свете, о радостной жизни творения?.. и это не есть ли подобие наших дней, наших мечтаний и тоски?..»[185]
Интересен тут фрагмент из очень поздней (писавшейся, видимо, в первой половине 1840-х гг., но опубликованной только в 1849 г.) поэмы «Арета» С. Раича, который уже на склоне лет полностью обратился, наконец, в романтическую веру – к тому времени, когда ее прочно сменила гегемония «натуральной школы». В целом поэма оказалась монументальным, хотя и устаревшим компендиумом христианско-дуалистического романтизма; но в данном случае перед нами дуализм иного, неоплатонического толка, лишенный демонологической заостренности. Герою, сподобившемуся узреть рай, Ангел-вожатый дает разъяснения касательно земной жизни, причем в этом его монологе «мертвая природа», по существу, уподобляется совершенно бескачественной материи Аристотеля и неоплатоников:
Любопытно было бы сопоставить строки, выделенные у нас курсивом, с тютчевскими: «И чувства нет в твоих очах, И правды нет в твоих речах, И нет души в тебе», но венчаемыми куда более мрачным выводом: «И нет в творении – творца! И смысла нет в мольбе!»[187] Впрочем, атеистические заявления такого рода вовсе не характерны для романтизма, в худшем случае предпочитавшего видеть в Создателе врага, а не фикцию.
11. Религиозная миссия романтика
Итак, в романтизме сосуществуют несколько космогонических моделей, и все они пронизаны общей ностальгией по утраченному первоначалу. Но ностальгия эта в них понималась по-разному.
Согласно наиболее радикальной версии, с которой мы уже успели ознакомиться, злом было само создание мира, а его упорядоченность – это порабощение духа, распавшегося и рассредоточенного по тюремным отсекам земли, отторгнутой от неба. В такой негативной или, условно говоря, экстремистско-гностической трактовке дух стремится вырваться из земного плена – в смерть, в блаженно-гармоническое или блаженно-хаотическое прабытие.
Но он может вступить и в яростную войну с жестокими силами, ввергнувшими его в заточение, – и тогда религиозная оценка его борьбы будет зависеть от того, в каком ключе понимаются сами эти враждебные ему небесные власти: т. е. от того, отнесены ли те к сфере божественного или, напротив, демонического либо рокового начала. На практике, однако, граница между прометеевским бого– и сатаноборчеством в романтизме нередко размыта[188], так что сакрализация самого воителя может перемежаться с его демонизацией – и наоборот. Этой модели (адаптированной, кстати сказать, революционно-народнической риторикой) мы коснемся значительно ниже.
Согласно другой, менее мрачной масонско-теософской схеме, которая в кульминационной своей части не столь уж далеко отстоит, впрочем, от вышеприведенных сюжетов, сотворение вселенной было величайшим благом. Но вследствие грехопадения или адекватного ему катаклизма, подстроенного Сатаной, мир и человек деградировали, утратив – хотя и не полностью – вложенное в них светозарное начало мудрости и гармонии. С тех пор земной жизнью заправляет не Творец, а Его злобный антипод – «князь века сего» (романтически настроенные революционеры заменят его «властью тиранов», самодержавием, капитализмом и пр.). Орудием угнетения становится и природа. Как полагал Эккартсгаузен, один из наиболее престижных в России теософских писателей, «человек, назначенный быть повелителем натуры, учинился рабом ее»[189]. Падший мир предстояло исцелить хранителям гнозиса, к каковым причисляли себя русские розенкрейцеры, действовавшие на рубеже XVIII–XIX вв. Но вместе с тем сама фигура демонического вредителя их занимала довольно мало – во всяком случае, куда меньше, чем православную церковь или всевозможных байронических титанов, строивших свой образ с опорой на этот тотем.
Наследовавшие масонам любомудры и натурфилософы вроде Максимовича подпали уже под влияние немецких пантеистических учений, а потому чурались резких дуалистических антитез гностического или даже христианского толка. (Соответственно, демонологический аспект грехопадения чаще всего отступал у них на задний план либо попросту устранялся – вместе с самим Сатаной, который за редкими исключениями не вызывал в этой среде ни малейшего интереса.) Именно такой подход являл собой наиболее положительную, жизнелюбивую версию романтической космологии.
Высвечивая в собственной душе или в самой природе заветную истину, сокрытую от невежд, но ниспосланную ему небесами, альтруистически настроенный романтик такого типа либо его лирический представитель стремится к тому, чтобы вернуть ее в падший мир, тем самым способствуя его возрождению. Тогда его гнозис заменяет собой жертву Искупления и, по сути, делает ее ненужной. Упраздняя своими трудами подвиг Спасителя, он одновременно замещает на земле и Творца, ибо обновляет Его дело. Иными словами, сотериологические усилия романтика неизбежно принимают демиургическую окраску. В этом, как мы вскоре увидим, и состояла утопия раннего любомудрия, греза русских натурфилософов.
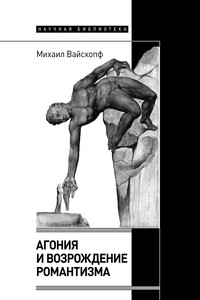
Романтизм в русской литературе, вопреки тезисам школьной программы, – явление, которое вовсе не исчерпывается художественными опытами начала XIX века. Михаил Вайскопф – израильский славист и автор исследования «Влюбленный демиург», послужившего итоговым стимулом для этой книги, – видит в романтике непреходящую основу русской культуры, ее гибельный и вместе с тем живительный метафизический опыт. Его новая книга охватывает столетний период с конца романтического золотого века в 1840-х до 1940-х годов, когда катастрофы XX века оборвали жизни и литературные судьбы последних русских романтиков в широком диапазоне от Булгакова до Мандельштама.

Русский язык не был родным языком Сталина, его публицистика не славилась ярким литературным слогом. Однако современники вспоминают, что его речи производили на них чарующее, гипнотическое впечатление. М. Вайскопф впервые исследует литературный язык Сталина, специфику его риторики и религиозно-мифологические стереотипы, владевшие его сознанием. Как язык, мировоззрение и самовосприятие Сталина связаны с северокавказским эпосом? Каковы литературные истоки его риторики? Как в его сочинениях уживаются христианские и языческие модели? В работе использовано большое количество текстов и материалов, ранее не входивших в научный обиход. Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С.
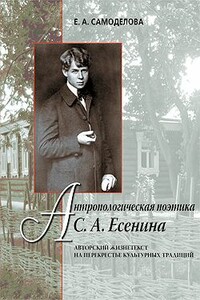
До сих пор творчество С. А. Есенина анализировалось по стандартной схеме: творческая лаборатория писателя, особенности авторской поэтики, поиск прототипов персонажей, первоисточники сюжетов, оригинальная текстология. В данной монографии впервые представлен совершенно новый подход: исследуется сама фигура поэта в ее жизненных и творческих проявлениях. Образ поэта рассматривается как сюжетообразующий фактор, как основоположник и «законодатель» системы персонажей. Выясняется, что Есенин оказался «культовой фигурой» и стал подвержен процессу фольклоризации, а многие его произведения послужили исходным материалом для фольклорных переделок и стилизаций.Впервые предлагается точка зрения: Есенин и его сочинения в свете антропологической теории применительно к литературоведению.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
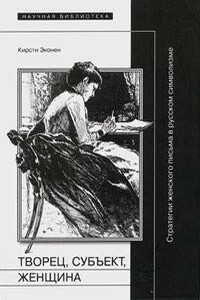
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.