Влюбленный демиург - [3]
Так обстояло не только с метафизикой, но и с физикой, а вернее, почти со всеми науками. Великую русскую литературу создавали преимущественно дворяне – люди, к ученым занятиям, как правило, все же не слишком восприимчивые; русскую же науку создадут потом главным образом выходцы из духовного сословия и разночинцы. Неудивительно, что, в отличие от немецкого, здешний романтизм ничего не дал лингвистике, географии и очень мало – пониманию отечественной истории, где для подавляющего большинства сочинителей кумиром оставался безнадежно архаичный Карамзин[21], писавший ее с оглядкой на Тита Ливия.
Литераторы – и великие и малые – скопили или популяризировали множество этнографических сведений, преимущественно о «малороссах» (Гоголь, Максимович, Срезневский), но также и о других, в том числе сибирских, народах: см. у П. Кудряшёва, В. Одоевского, Калашникова, Дуровой и пр. Однако интерес этот чаще всего сводился к поверхностной экзотике и чарам местного колорита (мокша била векшу). Без устали живописали горцев и войну на Кавказе, но при этом умудрились не заметить ее новой мусульманской основы – мюридизма[22]. Несмотря на труды отдельных энтузиастов, собирание самого русского фольклора по-настоящему развилось только ко второй половине XIX в., т. е. уже в эпоху реализма и позитивизма. И лишь тогда появился наконец первый серьезный представитель романтизма в российской фольклористике: я имею в виду А.Н. Афанасьева, приверженца «мифологической школы».
Если в Германии романтизм успел оказать огромное – правда, не всегда положительное – влияние на естественные науки, включая медицину, то в России этот вклад оказался минимальным (шеллингианец Велланский принадлежал все же к доромантическому поколению). Что касается писательской среды, то для нее профессиональные натуралисты наподобие Максимовича или образованные любители вроде В. Одоевского остались колоритным исключением. Какое уж тут естествознание, когда многие литераторы выказывали удивительную беззаботность по части самой элементарной анатомии или зоологии? О странностях обеих дает представление хотя бы строка Тимофеева: «Вот перси оделись младыми крылами» («Пробуждение во сне»). Подсмеиваются над стихами Лермонтова о львице «с косматой гривой на хребте» – но что сказать о других романтиках? У Полежаева птица кормит грудью рожденных ею птенцов: «Он мне нужнее, чем денница, Чем для рожденного птенца Млеко родимого сосца!» (послание к Ф.А. Кони); у Кукольника мы встретим улыбчивых крокодилов: «А он, с улыбкой крокодила, В глаза ее нетерпеливо смотрит» («Джулио Мости». Ч. 3, явл. 1). Тигров русские писатели, включая Белинского, упорно размещали в Африке, а Масальский даже переселил их в Америку, где заставил рыть норы: «Из нор выходят тигры» («Дерево смерти»)[23]. Вероятно, в ботанике разбирались не лучше – оттого муза держит «венок из листьев кипариса» (И…….ъ, фантазия «Поэт и муза)[24].
Хотя именно тогда, в 1830–1840-х гг., началось становление университетской науки, сама эта наука пока не освоилась со своими задачами. Вспоминая о Московском университете и его преподавателях – С. Шевыреве, И. Давыдове, О. Бодянском, Ф. Морошкине или о талантливом и обаятельном, но «страшно ленивом» Т. Грановском, – Афанасьев с горечью резюмировал: «Вообще профессоров наших нельзя сравнивать с немецкими, этими благородными тружениками науки»[25].
Все это не означает, однако, будто у словесности Золотого века не было своего миросозерцания и своей метафизики – но искать их следует не столько в теоретических манифестах, импортированных из Германии или Франции, сколько в живой природе самого литературного творчества. Подлинная религиозно-идеологическая проблематика русского романтизма по большей части дана в его сюжете и стиле, и наша обязанность – извлечь ее оттуда. Только очень наивное литературоведение видит в религиозно окрашенной романтической метафоре всего лишь метафору: это сигнал новых мифологем, успевших укорениться в эстетической почве. В своей книге я пытаюсь ответить на простой вопрос: о чем, собственно, писали эти люди?
Но здесь меня поджидает и встречный вопрос, который всегда задают тоном скептического глубокомыслия: «А думал ли сам автор обо всем этом, или же вы просто навязываете ему отрефлектированные концепции?» Ответ состоит в следующем. Конечно, способность к рефлексии у литераторов неодинакова. Русские классики в целом превосходно ориентировались в идеологических компонентах собственного творчества; но, как правило, ориентировались именно «в целом», безотчетно внедряя, помимо того, те или иные мировоззренческие элементы в мотивно-стилистическую ткань своего нарратива. Очень многое, безусловно, ускользало от их рефлексии – таковы уж стихия вдохновения и сама практика литературной работы. У большинства остальных до настоящей рефлексии дело, скорее всего, просто не доходило. Однако, на мой взгляд, подобные ситуации как раз ценнее и поучительнее любого концептуального самоанализа.

Русский язык не был родным языком Сталина, его публицистика не славилась ярким литературным слогом. Однако современники вспоминают, что его речи производили на них чарующее, гипнотическое впечатление. М. Вайскопф впервые исследует литературный язык Сталина, специфику его риторики и религиозно-мифологические стереотипы, владевшие его сознанием. Как язык, мировоззрение и самовосприятие Сталина связаны с северокавказским эпосом? Каковы литературные истоки его риторики? Как в его сочинениях уживаются христианские и языческие модели? В работе использовано большое количество текстов и материалов, ранее не входивших в научный обиход. Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.
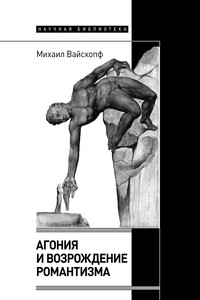
Романтизм в русской литературе, вопреки тезисам школьной программы, – явление, которое вовсе не исчерпывается художественными опытами начала XIX века. Михаил Вайскопф – израильский славист и автор исследования «Влюбленный демиург», послужившего итоговым стимулом для этой книги, – видит в романтике непреходящую основу русской культуры, ее гибельный и вместе с тем живительный метафизический опыт. Его новая книга охватывает столетний период с конца романтического золотого века в 1840-х до 1940-х годов, когда катастрофы XX века оборвали жизни и литературные судьбы последних русских романтиков в широком диапазоне от Булгакова до Мандельштама.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».