Влюбленный демиург - [27]
Столь же явственно, хотя на совершенно ином материале, кровная связь этого романтизма с восточнохристианскими гностическими тенденциями прослеживается в «Художнике» Тимофеева (1834), герой которого, кстати сказать, тоже долго чурался женщин. В детстве он, подобно прочим тимофеевским персонажам, постоянно мечтал о «всеобщем разрушении». Его эсхатологические утопии проистекали из самой вражды к сотворенному миру – вражды, которая внушала мальчику и суицидально-романтические позывы, и любовь к Пасхе с ее патетикой воскресения, и напряженное ожидание чуда, заменившее обыкновенную жизнь, и желание с ней расстаться, уйдя в отшельничество:
Физический мир не имел для меня никакой прелести. Когда я выходил из своего усыпления, мне становилось скучно <…> Все обыкновенное мне не нравилось. Я любил прогуливаться по карнизам развалившихся строений или бегать по срубам колодезей; любил лазить по высоким деревьям или, повиснув на суку, качаться над рекою; любил бродить по кладбищам, спускаться в полуразрушенные могилы, ловить летучих мышей и т. п. <…> // Все обряды нашей религии мне чрезвычайно нравились; особенно любил я службу на страстной неделе и на пасхе. Однажды мне пришло в голову сделаться отшельником <…> Я был чрезвычайно мнителен и всякий день ожидал кончины света. Сны мои были наполнены чудесным и таинственным[167].
Вообще, множество тогдашних писателей, от самых даровитых до самых бездарных, прикидывали возможность уничтожения нашего мира в какой-либо катастрофе. Одним из ее вестников представлялась комета Галлея[168]. Как раз в 1830-х гг. в России пробудился интерес к Юнг-Штиллингу[169] и его апокалипсическим пророчествам, подсказанным швабским мистиком И.А. Бенгелем. Согласно этим вычислениям, битва Христа с Антихристом должна была состояться в 1836 г.[170] В ожидании этой даты, по наблюдениям Чижевского и Виницкого, был создан и гоголевский «Ревизор». Уже ретроспективно, в 1838-м, Павел Каменский описывает панику среди русских обитателей Кавказа, сопредельного месту предсказанной битвы: «Лезгины… нападут… напали… скоро тридцать шестой год… светопреставление»[171]. Ожидания такого рода, свойственные всей романтической культуре, приоткрывали ее осознанную или инстинктивную волю к гибели. О ней говорили и сцены потопа, запечатленного в «Медном всаднике», и брюлловская тема «Последнего дня Помпеи», которая, в свою очередь, инспирировала серию откликов, сблизивших одноименные стихи того же Тимофеева с их знатными родственниками из круга пушкинских («Везувий зев открыл…»[172]) и гоголевских произведений. На этих потусторонних орбитах трогательно убогая мистерия Тимофеева «Последний день» или его стихотворение «Последнее разрушение мира» пересекались с «Последней смертью» Баратынского и «Последним катаклизмом» Тютчева: «Когда пробьет последний час природы…».
Поразительно, как часто в тогдашней культуре дифирамбы самой этой мудро сотворенной природе соседствуют с мыслью о ее роковой ущербности и с какой легкостью они перетекают в мечту о ее возвращении в прабытие. Так построен, к примеру, один из восторженных («Честь и слава русскому ученому!») отзывов Надеждина об «Основаниях физики» М. Павлова, изданных в 1836 г. Натурфилософское во здравие здесь незамедлительно переходит в религиозно-эскапистский за упокой. Под конец рецензент превозносит автора за «постоянное обращение к миру духовному, высшему, которого физическая природа есть только низшая ступень, внешнее преддверие! Г. Павлов не останавливается в этом преддверии; он с благоговением возводит взоры туда, где царствует вечная жизнь, начало всякого временного дыхания, где сияет вечный свет, которого наша солнечная система есть потемнение, помрачение».
Мы видим, что Надеждин пока не выходит за пределы неоплатонической редукции – философемы об угасании света, удаленного от его божественного источника. Но тут же, вслед за самим физиком, он сворачивает в сторону гностической интерпретации, рассматривающей сотворение мира как «падение», после которого должно будет наступить его исправление или просто уничтожение земли в конце времен:
Повторим здесь, что г. Павлов говорит в заключение своей «теории сил планетных вещественных»: «Электричество, магнетизм и гальванизм, будучи видоизменением света, тяжести и огня, не составляют ступени при переходе последних в вещество; напротив, явление их в составе планеты знаменует возвратный шаг природы, порыв из глубины падения проторгнуться [sic] в свет. Потемнение света образованием стихий земных, и преимущественно земли, доведено до крайности; в дальнейшем развитии природы видно уже ее усилие отвлечься от вещества» (Осн. Физики. Ч. 2. С. 357). Не явное ли это подтверждение, – восклицает ликующий рецензент, – того «всеобщего чаяния твари», которое возвещает нам религия: «яко и сама тварь свободится от работы истления в свободу славы!» (Рим. 8: 21).
Так отечественный Павлов завершает миссию апостола Павла. К пророчеству этого последнего, столь повлиявшего на гностиков, Надеждин прибавляет патриотический комплимент молодой русской науке – но комплимент того же потустороннего свойства: «Благо науке, когда она воспитывает <…> чувство веры, единственное звено, связующее нас с небом, где наша отчизна, где наше последнее прибежище и успокоение!»
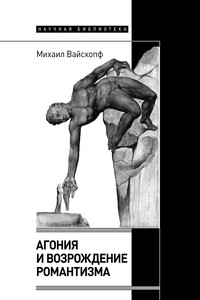
Романтизм в русской литературе, вопреки тезисам школьной программы, – явление, которое вовсе не исчерпывается художественными опытами начала XIX века. Михаил Вайскопф – израильский славист и автор исследования «Влюбленный демиург», послужившего итоговым стимулом для этой книги, – видит в романтике непреходящую основу русской культуры, ее гибельный и вместе с тем живительный метафизический опыт. Его новая книга охватывает столетний период с конца романтического золотого века в 1840-х до 1940-х годов, когда катастрофы XX века оборвали жизни и литературные судьбы последних русских романтиков в широком диапазоне от Булгакова до Мандельштама.

Русский язык не был родным языком Сталина, его публицистика не славилась ярким литературным слогом. Однако современники вспоминают, что его речи производили на них чарующее, гипнотическое впечатление. М. Вайскопф впервые исследует литературный язык Сталина, специфику его риторики и религиозно-мифологические стереотипы, владевшие его сознанием. Как язык, мировоззрение и самовосприятие Сталина связаны с северокавказским эпосом? Каковы литературные истоки его риторики? Как в его сочинениях уживаются христианские и языческие модели? В работе использовано большое количество текстов и материалов, ранее не входивших в научный обиход. Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С.
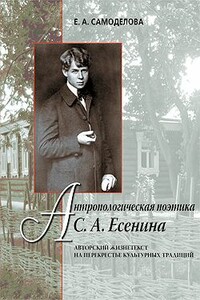
До сих пор творчество С. А. Есенина анализировалось по стандартной схеме: творческая лаборатория писателя, особенности авторской поэтики, поиск прототипов персонажей, первоисточники сюжетов, оригинальная текстология. В данной монографии впервые представлен совершенно новый подход: исследуется сама фигура поэта в ее жизненных и творческих проявлениях. Образ поэта рассматривается как сюжетообразующий фактор, как основоположник и «законодатель» системы персонажей. Выясняется, что Есенин оказался «культовой фигурой» и стал подвержен процессу фольклоризации, а многие его произведения послужили исходным материалом для фольклорных переделок и стилизаций.Впервые предлагается точка зрения: Есенин и его сочинения в свете антропологической теории применительно к литературоведению.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
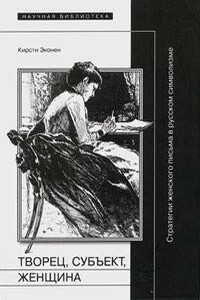
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.