Влюбленный демиург - [11]
На рубеже XVIII–XIX вв. русская литература выказывала неизбывную зависимость и от настроений, столь внушительно нагнетавшихся в прославленной кладбищенской поэме Эдварда Юнга (правильнее было бы Янга – Young) или у его отечественных подражателей: «Блажен человек, который устраняется многих увеселений мятежного мира и <…> осмеливается посещать гробницы, читает надгробные надписи умерших, ценит их прах и с удовольствием проводит нощное время на кладбищах»[62]. Та же заповедь блаженства содержится в других переводных и оригинальных сочинениях, обильно расплодившихся в Александровскую эпоху. Вожделенная гробница могла быть даже передвижной, как это изображено у весьма популярной М.Ф. Жанлис. Я подразумеваю ее роман «Герцогиня де Лавальер» – тот самый, с которым не расстается скупщик мертвых душ у Гоголя (действие его поэмы приурочено к александровскому времени и несет на себе соответствующий идеологический отпечаток). Героине книги гроб служит привычной постелью. Приторочив его к своей карете в качестве клади, она переселяется, наконец, в кармелитский монастырь, решившись навеки расстаться с миром: «Она ничего не взяла из своих великолепных покоев, кроме гроба, который хотела поставить в келье своей; он был завернут в покрывало и привязан, как чемодан, позади берлина»[63].
А гораздо позже, уже на заре 1830-х гг., т. е. в период безраздельной гегемонии романтизма, Николай Греч в своей учебной хрестоматии переиздаст в качестве образцового сочинения пиетистский трактат И.-Л. Мозгейма «Как должно рассуждать о смерти», переведенный М. Каченовским: «Привыкайте заблаговременно смотреть на покров, под которым будет лежать бездушное ваше тело. Заглядывайте в могилу, в которую опустятся ваши кости <…> Не ленитесь быть часто между теми, которые, по кончине больного, приготовляют бездушное тело к погребению <…> Молите Господа Бога, да научит вас размышлять о смерти»[64]. Еще через четыре года эту кладбищенскую любознательность сам Греч подарит герою своего романа «Черная женщина», который наставляет приятеля: «Нам должно заранее знакомиться со смертью в разных ее видах, должно привыкать смотреть на нее не только равнодушно, но и с каким-то утешением душевным»[65]. Герой повести Егора Аладьина «Брак по смерти. Истинное происшествие» (1831), вдовец, ежедневно навещающий могилу жены, тоже душевно сроднится с некрополем: «Кладбище, многолюдная, но тихая столица смерти, как люблю я тебя! <…> Как приятны для моего сердца: свист ветра, шум обнаженных дерев и оклик верных могильных стражей – карканье воронов!..»[66]
Весь этот эскапистский настрой, хмурая вражда к дольному миру и экзальтированная ностальгия по тому свету, граничившая с некрофилией, находили, естественно, дружественный отклик в соответствующих тенденциях самого православия, санкционированных патристикой. Можно было бы, в частности, провести немало параллелей между юнговскими «Ночными думами» и вечерними «слезными молениями» или надгробными песнопениями Ефрема Сирина – параллелей, отчасти объясняемых пасторской эрудицией английского поэта. Неудивительно, что импортный погребальный сентиментализм надолго полюбился русским православным писателям – например, Игнатию Брянчанинову, при всей его ревнивой неприязни к чужим исповеданиям. Еще в 1840-х гг. эхо заморских ламентаций доносится в лирических упражнениях этого исихаста, выказывавшего литературные претензии, – в таких его сочинениях, как «Сад во время зимы», «Древо зимою пред окнами келии», «Думы на берегу моря», «Кладбище», «Голос из вечности (Дума на могиле)»[67]. Он же включает в свой «Отечник» речения Исаака Сирского, с которыми безоговорочно согласились бы и г-жа Гийон, и любой масонский панегирист смерти вроде Руфа Степанова: «Терпение предваряется ненавистью к миру. Ненависть к миру – страхом Божиим и вожделением Бога»[68].
Русский романтизм зародился именно тогда, когда масонские, теософские и пиетистские влечения обрели, вместе с деятельностью Библейского общества, государственный размах, воплощенный в правлении кн. А.Н. Голицына[69]. Но как бы к тому времени ни успели отдалиться многие русские интеллектуалы от родной церкви, православное вероучение, впитанное ими с детства, оставалось все же интимной основой их мировосприятия – причем основой, созвучной негативистской стороне «духовного христианства».
В масонско-пиетистской среде созревал, как известно, и провозвестник отечественного романтизма Жуковский[70], оказавший, в свою очередь, глубокое идеологическое воздействие на раннего Тютчева и на мистически ориентированных поэтов типа Федора Глинки. Последний без всяких внутренних помех сочетал масонскую выучку с истовым православием и исихастской техникой собирания ума в сердце для молитвенного экстаза. В лице этих и ряда иных авторов русский романтизм с 1820-х гг. воспринял дуалистические предпочтения и сопряженную с ними томительную ностальгию по небесному инобытию, путь к которому лежит через смерть. Наиболее употребительным способом замаскированного самоубийства станет гибель в бою: «Война! Война! Друзья, простите! Стрелой лечу в кровавый бой. Напрасно удержать хотите – Мне смерть отрадою одной! <…> Война! Война! Дышу тобою! – Спеши страданья прекратить!» (И. Великопольский, «Война»; 1820)

Русский язык не был родным языком Сталина, его публицистика не славилась ярким литературным слогом. Однако современники вспоминают, что его речи производили на них чарующее, гипнотическое впечатление. М. Вайскопф впервые исследует литературный язык Сталина, специфику его риторики и религиозно-мифологические стереотипы, владевшие его сознанием. Как язык, мировоззрение и самовосприятие Сталина связаны с северокавказским эпосом? Каковы литературные истоки его риторики? Как в его сочинениях уживаются христианские и языческие модели? В работе использовано большое количество текстов и материалов, ранее не входивших в научный обиход. Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.
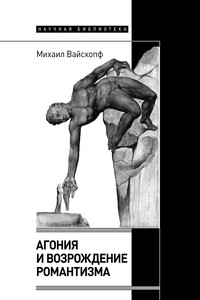
Романтизм в русской литературе, вопреки тезисам школьной программы, – явление, которое вовсе не исчерпывается художественными опытами начала XIX века. Михаил Вайскопф – израильский славист и автор исследования «Влюбленный демиург», послужившего итоговым стимулом для этой книги, – видит в романтике непреходящую основу русской культуры, ее гибельный и вместе с тем живительный метафизический опыт. Его новая книга охватывает столетний период с конца романтического золотого века в 1840-х до 1940-х годов, когда катастрофы XX века оборвали жизни и литературные судьбы последних русских романтиков в широком диапазоне от Булгакова до Мандельштама.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Анализируются сведения о месте и времени работы братьев Стругацких над своими произведениями, делается попытка выявить определяющий географический фактор в творческом тандеме.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии, произнесенной 7 декабря 1999 года в Стокгольме, немецкий писатель Гюнтер Грасс размышляет о послевоенном времени и возможности в нём литературы, о своих литературных корнях, о человечности и о противоречивости человеческого бытия…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.