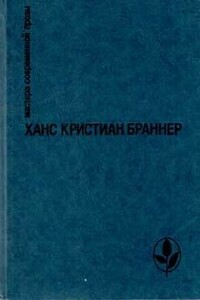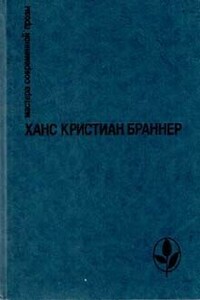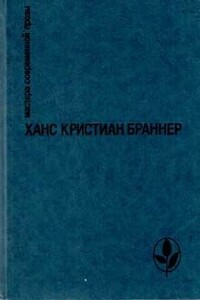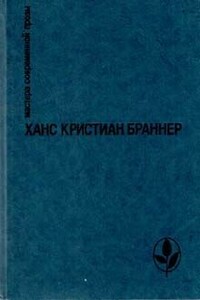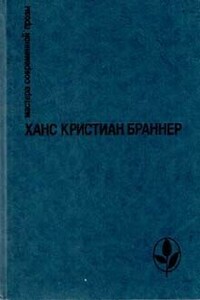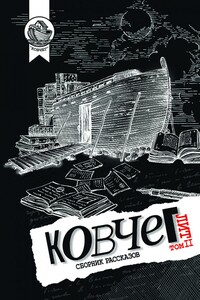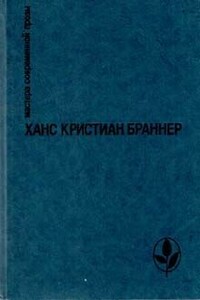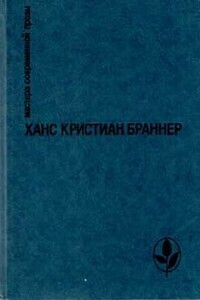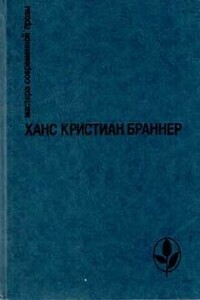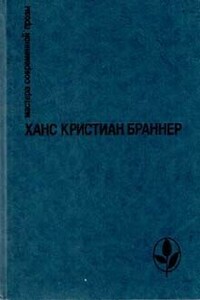Она решила, что я злюсь из-за тарелки супа, она считает меня таким ничтожеством. И в то же время я понимал, что она права: я в самом деле ничтожество. Но это сознание было для меня невыносимо. Я зажег свет и, забившись в самый темный угол, стал воздвигать вокруг себя спасительную стену ненависти. Бросить ее, думал я, пусть выпутывается как знает, увидит, каково ей придется. С какой стати она от меня чего-то требует? Я ведь не хотел тогда жениться, это она настаивала. Я хотел подождать, пока мне прибавят жалованье, но она настояла. С ребенком я тоже не хотел торопиться, я хотел подождать, но она настояла. Она сама навязалась мне, и теперь злится и корит меня, потому что я не приношу денег. Деньги, твердит она, деньги, деньги и деньги. И если я даже уйду от нее, она не оставит меня в покое, она пришлет ко мне адвоката за деньгами! Хоть бы мне вправду заболеть и умереть, чтобы не видеть ее больше, не слышать об этих деньгах, всегда только о деньгах. Вместе с тем я все время понимал, что это истерика и на самом деле я ничего такого не думаю.
Я долго сидел в своем углу. Перед глазами мелькали черные мушки, потом исчезли. Ненависть испарилась, оставив мутный осадок. По сути, ничего особенного не произошло. Какой-то человек за письменным столом смерил меня взглядом. Последний в длинном ряду тех, к кому я обращался, за последним в этом ряду столом. Я потерял голову и сделал попытку сказаться больным. А когда мне это не удалось, я впал в истерику. Тогда жена меня одернула, она должна была это сделать, мы не так богаты, чтобы впадать в истерику. Я совершенно отрезвел, мне было стыдно, меня слегка знобило, я сознавал, до чего дошел. Я дошел до точки. Я потерял сострадание к другим. Я упивался горем других, стараясь найти в этом облегчение; все ужасы, происходящие в мире, стали для меня только средством отвлечься от моих собственных жалких бед. Но все-таки тарелка супа оказалась для меня важнее. Раньше я не был таким, я стал таким теперь, и, если это будет продолжаться, я, может быть, дойду до того, что меня используют как орудие убийства. Может быть, да, а может, и нет, но, когда я думаю о том, насколько я изменился, я не смею ни за что ручаться. Меня знобило, мне было стыдно, мне было страшно и одиноко. И все же я хотел, чтобы меня оставили одного. Я даже не надеялся, что жена придет ко мне. До сих пор я считал наши отношения несокрушимой скалой, которую не могут размыть никакие подводные течения. Но теперь, притаившись в темноте, я чувствовал, что стою на плавучей льдине. Она еще недалеко от берега, ее еще не унесло в открытое море, но течение тихонько повлекло ее за собой. И я слышал, как мелкие пенистые волны плещутся о лед и льдинки позвякивают, точно колокольчики; я увидел перед собой полоску синевато-зеленой воды, которая становилась все шире. Никогда раньше я не испытывал такого страха. Но если бы жена и вошла сейчас, я все равно не решился бы прижать ее к себе и пообещать не покидать ее ни в горе, ни в радости: подобные слова люди говорят лишь тогда, когда они благоденствуют, – нужно иметь средства, чтобы верить в такие клятвы.
Но она не пришла ко мне, между нами не произошло ни объяснения, ни примирения, и я был этому даже рад. Только поздно ночью, когда я думал, что она уже заснула, ее рука вдруг протянулась ко мне, ощупью нашла мою руку и сжала ее.
– Постараемся быть друзьями, – сказала она со своей кровати.
– Да, – ответил я. – Постараемся быть друзьями.