Виталий Гинзбург, Игорь Тамм - [4]
Игорь Тамм. 1903 г.
С отцом в Японии.
Рудольф Пайерс, член Лондонского королевского общества: «Первое, что бросалось в глаза при встрече с ним, – его жизнерадостность и подвижность. Эти черты проявлялись в мгновенности его реакции и живом интересе к любой проблеме как в физике, так и вне ее, в быстром схватывании сути того, что кто-либо пытался ему сказать, и даже в его чисто физической неугомонности и быстроте движений.
Я бережно храню фотографию, снятую во время его доклада на конференции по физике в Одессе в 1930 г. Тогда я впервые встретил Тамма. Фотоаппарат у меня был довольно слабенький. Хотя света в аудитории оказалось достаточно для того, чтобы все остальные лица вышли четко и в фокусе, изображение быстро движущегося Тамма получилось на ней в виде нечеткого мазка.
Однако вскоре становилось ясно: его быстрота отнюдь не была свидетельством поверхностности. Он очень глубоко понимал физику – как старую, так и новую. В то время многие молодые физики, преисполненные энтузиазма под воздействием идей новой квантовой механики, считали все сделанное до 1926 г. старомодным и бесполезным. Но Тамм знал, как соединить изящные построения нового метода с глубоким содержанием старого. И у него всегда можно было поучиться пониманию этой взаимосвязи.
При многих последующих встречах во мне крепло уважение к его глубокому пониманию человеческих проблем. Тамм привносил в них ту же скромность и уравновешенность, с какими он подходил к решению физических проблем. Как только у него складывалось мнение о том, что правильно, а что неправильно, он начинал действовать без всяких колебаний, как если бы он боролся за физическую истину. Это проявлялось и на Пагуошских конференциях, где нашей общей заботой стали проблемы сохранения мира и предотвращения гибели человечества. Его участие в этих встречах всегда оживляло их.
В последний раз я встретил Тамма летом 1969 г., когда его здоровье уже было заметно подорвано болезнью. Двигался он теперь медленно, но ум, как и прежде, реагировал очень быстро. Несмотря на все тяготы (на которые никогда не жаловался), он упорно занимался расчетами, связанными с некоей новой идеей в физике элементарных частиц. Мир был бы лучше, если бы нас окружало побольше таких людей, как Игорь Евгеньевич».
В. Л. Гинзбург, академик: «Игорь Евгеньевич был альпинистом, но мне довелось в горах столкнуться с ним лишь, так сказать, в период минимума его активности. В 1945 г. мы вместе были на Памире, вблизи Мургаба, – там на высоте около 3800 м находилась станция Лаборатории космических лучей ФИАНа. Игорь Евгеньевич перед этим был чем-то болен, принимал лекарства – в общем, был не в форме. Поэтому по окрестностям он ходил с трудом и переживал это. К тому же ему было уже 50 лет, а это не самый подходящий возраст даже для небольших восхождений. Но Игорь Евгеньевич был гордым человеком, не любил сдаваться. И его, видимо, немного огорчало и то, что я без всякой тренировки да и гор раньше не видавший иду быстрее. Кстати, Игорь Евгеньевич действительно потом оправился от последствий болезни и еще долго ходил в горы, вплоть до 1965 г., то есть до 70 лет…
Тамм – гимназист.
В научной среде очень часто приходится сталкиваться с проявлениями не только честолюбия, но и тщеславия. Насколько я могу судить, тщеславие было чуждо Игорю Евгеньевичу. Он не стремился к наградам и почестям и, например, даже получив Нобелевскую премию, был умеренно доволен, но не более… Что касается честолюбия, то это слово является, к сожалению, недостаточно однозначным. Честолюбивым считают не только человека, стремящегося занять высокое положение, управлять другими, но и того, кто хочет сделать хорошие работы и увидеть их признание, а тем самым, можно сказать, утвердить свою личность. В таком последнем смысле честолюбие (назовем это «хорошим честолюбием») обычно даже необходимо и является одним из условий успеха в работе. Сколько талантливых людей не реализовались из-за лени, безразличия и, по сути дела, отсутствия «хорошего честолюбия». Думаю, что Игорь Евгеньевич обладал таким честолюбием. Обладал он также самолюбием и гордостью, но в таких дозах, когда это не мешает другим. Не знаю, как выразиться точнее. Вот Игорь Евгеньевич играет в теннис или другую игру и при каждом промахе делает недовольный жест. Он явно не любил проигрывать и в шахматы. Я уже упоминал о его большом недовольстве, когда плохо «ходилось» в горы. Но в этом было даже что-то детское во взрослом и уже немолодом человеке. А гордость не позволяла жаловаться на болезни и боль, заставляла держаться.
Последние три года жизни Игоря Евгеньевича нельзя не назвать трагическими. В 1967 г. он заболел боковым амиотрофическим склерозом и с февраля 1968 г. из-за паралича диафрагмы был прикован к дыхательной машине. Точнее, к машинам, которые он мог менять, – садиться за стол и работать, пользуясь портативной машиной, сделанной одним умельцем. Он с улыбкой, но горечью говорил о себе: «Я как жук на булавке». Однако первые года два много работал, играл в шахматы, был рад, когда к нему приходят. И стал мягче, болезнь не озлобила, не раздавила. Игорь Евгеньевич обычно многое скрывал, считал, вероятно, что нельзя проявлять некоторые теплые чувства, а у больного они чаще проглядывали…»
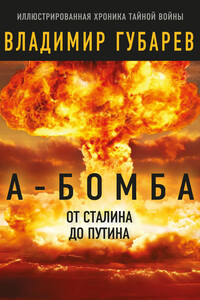
История создания советского ядерного оружия остается одним из самых драматичных и загадочных сюжетов XX века. Даже, несмотря на то, что с 29 августа 1949 года, когда на Семипалатинском полигоне была испытана первая атомная бомба, прошло 70 лет. Ведь все эти годы наша страна продолжает вести тайную войну с Западом. Эта книга необычная по двум причинам. Во-первых, о создании отечественного ядерного и термоядерного оружия рассказывают те самые ученые, которые имеют к этому прямое отношение. Во-вторых, они предельно откровенны, потому что их собеседник – человек, посвятивший изучению истории «Атомного проекта СССР» более полвека своей жизни, а потому многие страницы этой истории известны ему лучше, чем самим ученым – все-таки секретность властвовала над судьбами всех.
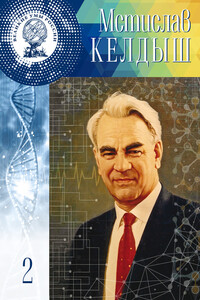
Эпоха рождает гениев только в том случае, если предстоит изменить жизнь коренным образом. Это случается очень редко. Нам повезло! Появился ученый, который сначала научил летать самолеты, потом создал крылатые «пули», пересекающие континенты за считаные минуты, побывал в центре термоядерного взрыва, чтобы описать происходящее там, и, наконец, рассчитал дороги в космос, по которым полетели спутники Земли, космические корабли и межпланетные станции к Луне, Марсу и Венере. 14 лет он стоял во главе науки Советского Союза и за эти годы вывел ее в мировые лидеры, хотя многие считали, что такое невозможно.
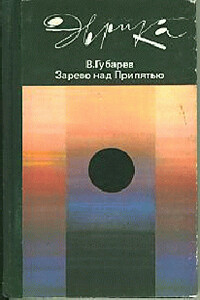
Книга писателя и журналиста, редактора газеты «Правда» по отделу науки Владимира Степановича Губарева повествует об аварии на Чернобыльской АЭС, об истории развития отечественной атомной промышленности, о настоящем и будущем мирного атома.
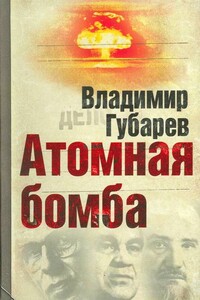
Все, что связано с созданием нового оружия, окружено глубокой тайной и в Америке. Возникает тотальная система секретности, прорваться сквозь которую практически невозможно. Однако советской разведке это удается, и в Москву направляются довольно подробные материалы о ходе работ по созданию атомной бомбы.Но разведке еще суждено сыграть свою роль, когда все добытые ею материалы начнут попадать в руки Игоря Васильевича Курчатова. А пока события развиваются своим чередом, и их хроника напоминает детективный роман с захватывающим сюжетом.
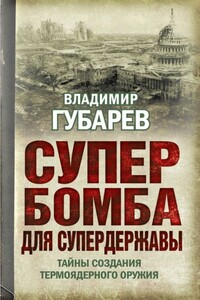
«Кузькина мать» — так называлась самая мощная термоядерная бомба, взорванная на Новой Земле. Говорят, что создание «супербомбы» стало переломным этапом не только в истории «Атомного проекта СССР», но и в ядерной гонке между СССР и США.О том, кем и где создавалась она, рассказывается в книге известного писателя и журналиста Владимира Степановича Губарева, автора многочисленных книг и статей о великих достижениях Советского Союза в науке и технике.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В большом зале Царскосельского дворца погас свет; государь император, члены царской фамилии и все собравшиеся на большом белом экране увидели цветные изображения: цветы, пейзажи, лица детей. Зрители были в восхищении. Когда сеанс закончился, автор коллекции С.М. Прокудин-Горский с волнением рассказал Николаю II о своем грандиозном проекте «Вся Россия».История фотографии – это во многом история открытий и изобретений, ставших вехами на пути от массивного деревянного аппарата к компактной цифровой камере, от долгих процессов печати – к копированию снимка одним движением руки.
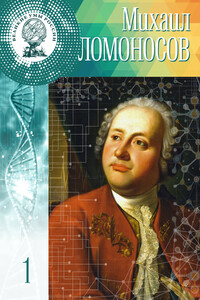
В истории России было два человека, которые не только в прошлом определили судьбу народа, но и влияют на нее и сегодня. И если Пушкин – его душа, то Ломоносов – его разум. Они объединились, чтобы создать нашу неповторимость, уникальность и исключительность.М.В. Ломоносов распахнул перед нами Вселенную Познания. Мы поняли, что образование и наука могут быть целью и смыслом Жизни. Именно наука за прошедшие три века разительно изменила человеческую цивилизацию. Она и сегодня определяет пути в будущее, а потому так ценен и необходим пример Михайло Ломоносова, чья биография, подобно детективному роману, изобилует удивительными поворотами и событиями.
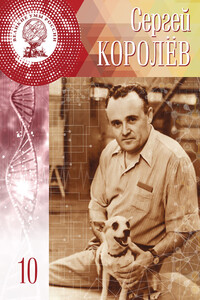
Едва люди стали привыкать к мысли, что самолеты созданы для службы человечеству, что железные птицы – это не миф, не сказка, а реальность, как начала развиваться практическая космонавтика! Возможность полета в космос, работы в невесомости, создания космических кораблей и искусственных спутников Земли до сих пор кажется удивительной. Можно только представить себе, насколько необычно это виделось людям в 50-е и 60-е годы прошлого века.Сергей Павлович Королев – великий конструктор, который сумел претворить в жизнь самые смелые мечты человечества.
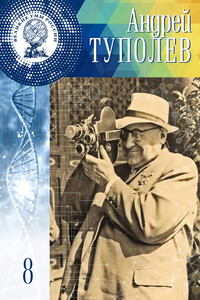
В детстве каждый из нас обращал взор к небу. Увидев в нем летящую в неведомые края стальную птицу, мы радовались этому, как чуду. А ведь действительно, чудо, что человек способен создавать машины, умеющие летать.А. Н. Туполев – один из тех, кто претворил наши мечты о полете в жизнь. Благодаря его трудам момент встречи с нашими близкими наступает гораздо раньше. Теперь мы пересекаем огромные расстояния за считаные часы, путешествуем, наслаждаемся небом. Мы уверены в завтрашнем дне: случись война – знаменитые туполевские бомбардировщики и истребители защитят страну достойно.Самолеты Туполева – наша гордость, опора и защита.