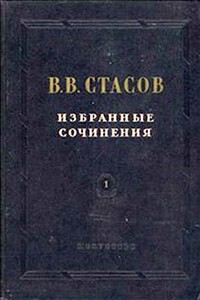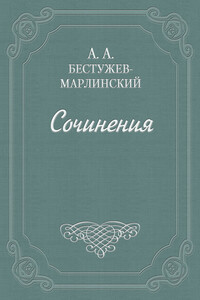Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме - [2]
Пелевин сам сознает эту противоестественность для страны, “где воняет помойкой и только что кончили пить портвейн”. Поэтому и переносит ее в основу повести, как бы исследуя чувство сакрального в условиях неволи. Условия эксперимента изложены в словах замполита Урчагина: “…то, за что ты отдашь свою жизнь, формально является обманом. Но чем сознательнее… ты осуществишь свой подвиг, тем в большей степени он будет правдой”. Урчагин требует вроде бы что-то абсурдное. Любой почувствует здесь лишь промывку мозгов и неизбежно увидит кого-то конкретного, стоящего за ней. Однако это оптический обман — в повести изображается реальность без альтернатив, без тех, кто знает правду и управляет ей. Одна сплошная реальность, постоянная и вездесущая, одинаковая в пионерском лагере и на воображаемой Луне и непрозрачная для взгляда со стороны. Пелевин не разделил события на реальные и фантастические, поэтому они и реальны, и фантастичны, причем без постмодернистского смыслового ростовщичества, ведь они не ведут борьбы за свой статус перед лицом действительности. В конечном счете, это и есть признак сакрального. Пелевин подошел к нему, конечно, не через парадный вход откровения. На крыльце аскетизма он тоже не сидел, ожидая, когда откроются двери. Он подошел с другой стороны, через грязный чулан разлагающегося советского пейзажа, который мог бы быть просто убогим, но неожиданно обнажил свою связь с иррациональными аспектами мира. Поэтому считать повесть социально-критической можно лишь наполовину.
Понятна причина, по которой стремятся абсолютизировать ее анти-тоталитарный посыл (на эту тему даже существует диссертация). Слишком однозначно воспринимается сюжет об обманутой мечте. Между тем в “Омоне Ра” связь советского мира и сакральной мечты не столь однозначна. То, что мечта разрушается силовым советским идеализмом, очевидно и поэтому сразу выносится в заголовок. Но то, что они вообще могут взаимно сосуществовать, либо упускается, либо снисходительно понимается как детская сентиментальность. Пелевин показал, что советская реальность легко впускала в себя сакральное. Показал не сопоставительными откатами советских реалий к ветхой истории (как в “Зомбификации”), а демонстрацией тотальной силы символов, равно действующих в любом частном контексте. Что в абсолютной и тем самым сакрализованной реальности означает фигурка пилота, наглухо посаженного в ракету без люка? То, о чем и рассказывается в повести: игрушечный пилот ничем не отличается от настоящего человека, как и картонная ракета — от той, которая могла бы летать. История Ра-Кривомазова — это история постоянного пленения, когда неожиданная и вездесущая символика опутывает человека и, парализуя свободу сознания, указывает на свободу высшую. Однако распознанный раньше других факт обмана, стоящего за этой подсунутой свободой, вылился для читателя в гибридную формулу, согласно которой Пелевин использовал постмодернистскую технику для критики социализма. Что абсурдно: эта техника не приспособлена быть критикой. Хотя бы потому, что она даже не знает, что такое действительность. Позже Пелевин сам же это и покажет.
Постмодернистский мир к “Омону Ра” не подпускает именно момент сакрального. Вторая защита — это прочные сваи реализма, ведь в основе своей содержание “Омона Ра” трудно пересмотреть. Это не социалистический реализм, не видящий человека без социальной среды, но и не критический реализм традиционного направления, когда человек становится предысторией суждения о времени. Это “просто реализм”, распознаваемый по воздействию истории на личность. Реализм оруэлловского типа, когда формальные признаки фантастики мало что значат после реального выстрела из пистолета.
В эссе “Зомбификация”, вышедшем ранее, Пелевин не только продемонстрировал несоциальную критику советского строя, но и раскрыл метод большинства будущих произведений. Несоциальность критики состоит в том, что писатель слишком хорошо понимает бессмысленность разговора о советском человеке на рациональном уровне. Советские условия — это безальтернативность и унификация, и действительность здесь перестает быть восприимчивой к каким-либо рациональным аргументам. Отсутствует сам язык, на котором их можно было бы выразить, — нечто подобное было у того же Оруэлла в “1984”. На понимании этого покоится благородство позиции Пелевина. Ведомые бессознательными силами, советские люди в его изображении не выглядят дураками, даже если отождествляются с зомби. Они заслуживают не привычного презрения с позиции западного индивидуализма, а того, чтобы их язык был понят. Поэтому и сама зомбификация — это не ругательство, а метафора уязвимости человека перед архаичными инстинктами. Сходство советских реалий и вудуистских обрядов может выглядеть просто оригинальным наблюдением. Но также оно указывает на непрочность современного сознания вообще, его неустойчивость, вызванную постоянными тектоническими сдвигами бессознательного. Геологическую аналогию проводит сам писатель, говоря в “Бульдозере” о “психическом котловане”, в который проваливаются строители “нового человека”.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

- видный русский революционер, большевик с 1910 г., активный участник гражданской войны, государственный деятель, дипломат, публицист и писатель. Внебрачный сын священника Ф. Петрова (официальная фамилия Ильин — фамилия матери). После гражданской войны на дипломатической работе: посол (полпред) СССР в Афганистане, Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938 г. порвал со сталинским режимом. Умер в Ницце.

«Охлаждение русских читателей к г. Тургеневу ни для кого не составляет тайны, и меньше всех – для самого г. Тургенева. Охладела не какая-нибудь литературная партия, не какой-нибудь определенный разряд людей – охлаждение всеобщее. Надо правду сказать, что тут действительно замешалось одно недоразумение, пожалуй, даже пустячное, которое нельзя, однако, устранить ни грациозным жестом, ни приятной улыбкой, потому что лежит оно, может быть, больше в самом г. Тургеневе, чем в читателях…».
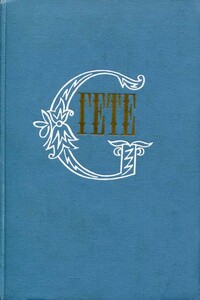
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.