Веселый солдат - [8]
У Клавы и в характере, и в действиях все было подчинено и приспособлено к делу.
Меня определили на вторую, боковую полку, против крайнего купе – «купе» девочек, отгороженного от посторонних глаз простынею. Но чаще всего простыня та была откинута, и я видел, как работала Клава. Паек она делила справедливо, никого не выделяя, никому не потрафляя, точным шлепком бросала в миски кашу, точным взмахом зачерпывала из бачка суп, точно, всегда почти без довесков, резала хлеб и кубики масла, точно рассыпала сахар миниатюрным, игрушечным черпачком; одним ударом, скорее, даже молниеносным броском иглу до шприца всаживала в подставленный зад или в руку, спину ли – и все это молча, со спокойной строгостью, порой казалось, даже злостью, и если больной вздрагивал или дергался от укола, она увесисто роняла: «Ну чего тебя кособочит? Сломаешь иглу», – и когда подбинтовывала, и когда успокаивала больных иль усыпляла, Клава тоже лишних слов не тратила. Ее побаивались не только больные , но и Анечка. Чуть, бывало, ранбольные завольничают, Анечка сразу: «Я вот Клаву позову, так узнаете!..»
Суток двое в пути я спал напропалую после львовской распределиловки и проснулся однажды ночью от какого-то подозрительного шороха. Мы где-то стояли. Я высунулся в окно. На улице, с фонарем, у открытого тамбура, в железнодорожной шинелке, из-под которой белела полоска халата, ежилась Анечка. Простыня на служебном купе колыхалась, за нею слышался шепот, чмоканье, потом и срывистое, загнанное дыхание и, как всегда, строго-деловой, спокойный голос Клавы: «Не торопись, не торопись, не на пожаре…» Из-под простыни выпростались наружу две ноги, ищущие опору и не находящие ее на желдорполке. Ноги в носках – значит, офицер откуда-то явился, у нас в вагоне сплошь были рядовые и сержанты, носков нам не выдавали.
Но Клава и тут никого не хотела выделять, обслуживала ранбольных беспристрастно, не глядя на чины и заслуги. Не успел выметнуться из купе офицер, как туда начал крадучись пробираться старший сержант, всю дорогу чем-то торговавший, все время чуть хмельной, веселый и, как Стенька Разин, удалой. Но когда после старшего сержанта, к моему ужасу и к трусливой зависти моей, в «купе» прокрался еще кто-то, Клава выдворила его вон, опять же строгим голосом заявив: «Довольно! Я устала. Мне тоже поспать надо. А то руки дрожать будут, и пропорю вам все вены…» Поезд тронулся. Прибежала Анечка, загасила фонарь, стуча зубами, сбросила шинеленку и со словами: «Ох, продрогла!» – нырнула к Клаве под одеяло: полка у них была одна на двоих, с откидной доской, кто-то из двоих должен был ночью дежурить и караулить больных, имущество – да где же девчонкам сутками выдержать дорожную работу, вот по их просьбе и приделали «клапан» к вагонному сиденью. Накрепко закрыв тамбуры с обеих сторон, они спали себе, и никто ни нас, ни имущество не уносил.
– Ну как было? Как? – приставала с расспросами к подруге Анечка.
– Было и было, – сонно отозвалась та. – Хорошо было. – И уже расслабленным голосом из утомленного тела испустила истомный вздох: – Хоро-шо-о-о-о.
Анечка не отставала, тормошила напарницу, и слышно было, как грузно отвернулась от нее Клава:
– Да ну тебя! Пристала! Говорю тебе – попробуй сама! Больно только сперва. Потом… завсегда… сла-а-адко…
– Ладно уж, ладно, – как дитя, хныкала Анечка, – тебе хорошо, а я бою-уся… – и тоже сонно вздохнула, всхлипнула и смолкла.
Устала, намерзлась, набегалась девчонка, и все успокаивающий сон сморил, усмирил ее тело, томящееся ожиданием греха и страха перед ним. А я из-за них не спал до утра. И вспоминалась мне давняя частушка, еще золотого деревенского детства: «Тятька с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я, бедный, за трубой загинаю х… дугой».
Глава 5
А утром у меня температура подпрыгнула, пусть и немного, и Клава ставила мне укол в задницу. Проникающим в душу спокойным взором она в упор глядела на меня и говорила, выдавливая жидкость из шприца, санитарке, порхающей по вагону:
– Своди малого в туалет. Умой. Он в саже весь. В окно много глядит. А моет только чушку. Одной рукой обихаживать себя еще не умеет. Вот и умой его. Как следует умой. Охлади!
И не когда-нибудь, а поздней ночью Анечка поперла меня в туалет, открыла кран и под журчание воды начала рассказывать свою биографию, прыгая с пятого на десятое. Биография у нее оказалась короткой. Очень. Родилась на Кубани, в станице Усть-Лабе. Успела окончить только семь классов, потом в колхозе работала, потом курсы кончила, медсестер, полгода уж санитаркой в санпоезде ездит, потому что места медсестер заняты…
– Во-от! – напряженно добавила она и смолкла. Вдруг нервно рассмеялась: – Война кончится, так и буду судна да утки подавать… медсестрой не успею…
– Успеешь! – поспешно заверил я. – На гражданке больных на твою долю хватит… Н-налечишь еще. – И я начал заикаться и опрометчиво добавил: – Ты доб-брая…
– Правда? – подняла голову Анечка, глаза ее черные загорелись на бледном лице заметным ярким огнем, может, и пламенем. – Правда?! – повторила она и сделала вроде бы шаг ко мне.
Но я, дрожащий, как щенок, от внутреннего напряжения, все понимал, да не знал, что и как делать, – здесь, в туалете, с перебитой рукой, в жалком, просторном бельишке, перебирая босыми ногами по мокрому полу, будто жгло мне подошвы, пятился к двери, от лампочки подальше, чтоб не видно было оттопырившиеся, чиненные ниже прорехи кальсонишки, и судорожно схлебывал:

Рассказ о мальчике, который заблудился в тайге и нашёл богатое рыбой озеро, названное потом его именем.«Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки — озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина и, сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное…».

1942 год. В полк прибыли новобранцы: силач Коля Рындин, блатной Зеленцов, своевольный Леха Булдаков, симулянт Петька. Холод, голод, муштра и жестокость командира – вот что ждет их. На их глазах офицер расстреливает ни в чем не повинных братьев Снигиревых… Но на фронте толпа мальчишек постепенно превращается в солдатское братство, где все связаны, где каждый готов поделиться с соседом последней краюхой, последним патроном. Какая же судьба их ждет?
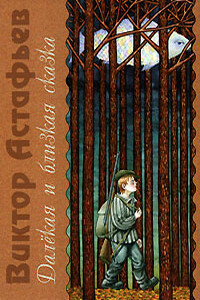
Рассказ опубликован в сборнике «Далекая и близкая сказка».Книга классика отечественной литературы адресована подрастающему поколению. В сборник вошли рассказы для детей и юношества, написанные автором в разные годы и в основном вошедшие в главную книгу его творчества «Последний поклон». Как пишет в предисловии Валентин Курбатов, друг и исследователь творчества Виктора Астафьева, «…он всегда писал один „Последний поклон“, собирал в нем семью, которой был обойден в сиротском детстве, сзывал не только дедушку-бабушку, но и всех близких и дальних, родных и соседей, всех девчонок и мальчишек, все игры, все малые радости и немалые печали и, кажется, все цветы и травы, деревья и реки, всех ласточек и зорянок, а с ними и всю Родину, которая есть главная семья человека, его свет и спасение.

Рассказы «Капалуха» и «Весенний остров» о суровой северной природе и людям Сибири. Художник Татьяна Васильевна Соловьёва.
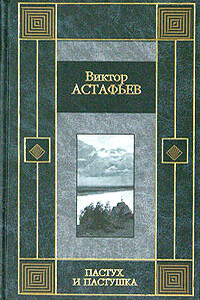
Виктор Астафьев (1924—2001) впервые разрушил сложившиеся в советское время каноны изображения войны, сказав о ней жестокую правду и утверждая право автора-фронтовика на память о «своей» войне.Включенные в сборник произведения объединяет вечная тема: противостояние созидательной силы любви и разрушительной стихии войны. «Пастух и пастушка» — любимое детище Виктора Астафьева — по сей день остается загадкой, как для критиков, так и для читателей, ибо заключенное в «современной пасторали» время — от века Манон Леско до наших дней — проникает дальше, в неведомые пространственные измерения...
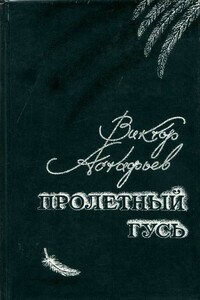
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Полковник конных войск Кирилл Нарышкин летом 1669 года привёз дочь Наталью в Москву к своему другу Артамону Матвееву. В его доме девушка осталась жить. Здесь и произошла поистине судьбоносная для Российского государства встреча восемнадцатилетней Натальи с царём-вдовцом Алексеем Михайловичем: вскоре состоялась их свадьба, а через год на свет появился младенец — будущий император Пётр Великий... Новый роман современной писательницы Т. Наполовой рассказывает о жизни и судьбе второй супруги царя Алексея Михайловича, матери Петра Великого, Натальи Кирилловны Нарышкиной (1651—1694).

Рассказ о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году а городе Орехово-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова. Для младшего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
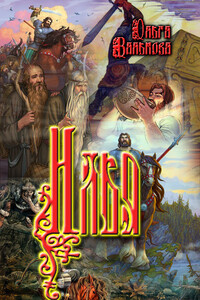
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.
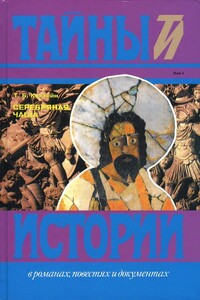
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
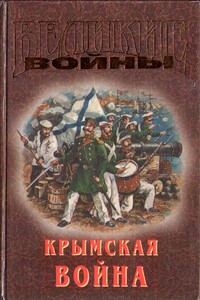
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.