Верочка - [22]
Разумеется, в своих собственных глазах я не был ни пошл, ни виновен. Я сумел себя обелить. Да и время тоже что-нибудь значило. Я привык, оправдываясь пред самим собою, ссылаться мысленно на поведение Верочки. Хоть поведение это заключалось в безотчётной любви её к Сергею Ипполитовичу, однако, мне казалось оно предосудительным.
Вообще я, должно быть, охладевал к Верочке. Часто я разбирал её со всех сторон. Конечно, она была хороша, не по летам женственна, обаятельна и грациозна. Но всё же она… но впечатление, произведённое на неё дядей…
«Нет, — восклицал я, ударяя кулаком по письменному столу, — как она смеет презирать меня за пассаж с Ольгой Сократовной!..»
О «пассаже», надо заметить, у нас и разговора не было, а о том, что она презирает меня, я впервые слышал от самого себя.
Петербургские дни мелькали, серые и коротенькие, как осенние пейзажи, мелькающие из окна вагона курьерского поезда, безотрадные и тоскливые. Время летело, и не успел я оглянуться, как уже на носу полукурсовые экзамены. Миновали экзамены, и вот уже северный жаркий июнь гонит петербуржца вон из города.
Я поселился в Озерках.
Как-то вечером, в лунные сумерки, я сидел в саду за столиком против эстрады и слушал музыку. Играл оркестр. В летнюю ночную тишину сладко вливались красивые звуки, и я забылся.
Но возле меня сел плотный мужчина в соломенной шляпе и дотронулся до моего плеча.
— Земляк!
Я вздрогнул и узнал Кузьму Антоновича. На этот раз я совсем не обрадовался ему.
— Будете пить?
Я отрицательно покачал головой. Впрочем, отделаться от Кузьмы Антоновича уж нельзя было, и завязался разговор. Кузьма Антонович объявил, что он тоже живёт в Озерках, вместе, разумеется, с Алиной Патрикеевной, и что дела у него теперь «важнецкие». В августе он поедет на юг, в качестве ревизора страховых отделений.
— Я теперь в правлении служу, — прибавил он. — Я этого целый год добивался, проект сочинил, и вот, наконец, удостоился… Правда, что пока еду не один, а так сказать — помощником… при особе!
Он значительно поднял палец. Помолчав и осушив стакан дешёвого вина, он сказал:
— Всё-таки Сергею Ипполитовичу я теперь в некотором роде начальство…
Музыка замирала, Кузьма Антонович молча осушил другой стакан вина. Когда оркестр кончил, раздались рукоплескания, и Кузьма Антонович, вставая, произнёс:
— Кажется, Алина Патрикеевна разыскивает меня… Я тут, Галю, гоу! Дурная, не бачит. Гоу! — кричал он, не стесняясь. — Нуте, до свиданья, Александр Платонович. Жаль мне вас, скажу вам откровенно. Сглупили вы тогда малую малость… Гоу! Галю, да ну ж, подожди!
Разумеется, Алина Патрикеевна слышала возгласы своего супруга, но они должны были резать её благовоспитанное ухо. Я видел вдали закаменевшее суровое лицо её, облитое молочным светом электрического фонаря. Наконец, Кузьма Антонович подошёл к ней, она отвернулась, и я потерял их из виду.
Предсказание Ткаченко, что недолго я буду получать аккуратно деньги от Сергея Ипполитовича, между тем, начало сбываться. Уже в июне я получил, вместо двухсот рублей, девяносто, в июле — ничего. Я стал беспокоиться, написал несколько писем и телеграмм, и, наконец, пришла повестка — на пятьдесят рублей. В письме дядя обещал не задерживать денег, но в августе опять не было ни копейки. Тогда, встретившись с Ткаченко, я рассказал ему о своём положении.
— Ага! — произнёс он и стал хохотать радостным смехом, держась за живот. — Постойте, ещё не то будет! — вопил он.
— Я не понимаю этого смеха! — сказал я с сердцем.
Через день я выехал из Озерков. Я увидел, что мне необходимо самому побывать в *** и упорядочить мои финансы. Не желая на будущее время оставаться по месяцам без денег, я хотел взять у дяди половину капитала и положить долгосрочным вкладом в солидный банк. Мне это не представлялось особенно затруднительным. Однако, когда на одной станции я столкнулся с Ткаченко, который, оказалось, тоже ехал в ***, вместе с «особой», и победоносно посмотрел на меня, сердце моё забилось от страха.
В *** я приехал в полдень. Дяди уже не было дома, и Павел, увидев меня, превратился в сфинкса. Положительно можно было сказать, при взгляде на его лицо, что на нём написана целая история нашего дома, или, вернее, его скандальная хроника; и потому, что это пошлое лицо, к которому у меня вернулось прежнее отвращение, было особенно загадочно, я заключил, что случилось ещё что-то.
— А Вера Константиновна где? — спросил я.
— На даче, — отвечал он.
— Давно?
— С начала лета.
— Здорова?
Он не ответил.
— А Эмма?
Он пожал плечами и торопливо стал вешать моё пальто. Я опустил руку в карман, Павел следил за нею искоса. Но в кармане ничего не оказалось, и Павел нашёл множество неотложных дел, которые помешали ему отвечать на мои вопросы. Особенно усердно соскребал он ногтем большего пальца стеариновое пятно с ковра.
Я рассердился.
— Скажи, по крайней мере, где на даче?
— В Памфиловке, — произнёс он небрежно.
Я отправился в контору страхового общества, и дядя выбежал ко мне в приёмную на минутку. Он был всё также благообразен и также по-джентльменски встретил меня. Он немного изменился: в лице прибавилось краски, он стал тучнее, и на висках ярко белели волосы. Дядя вынул бумажник, дал мне сотенную, и, когда я рассказал о своём намерении взять у него половину капитала, он поспешил уверить, что никаких препятствий не будет, и разве что придётся повременить недели две.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — русский писатель, журналист, поэт, литературный критик, переводчик, драматург, издатель и мемуарист.

«Книга воспоминаний» — это роман моей жизни, случайно растянувшийся на три четверти века и уже в силу одного этого представляющий некоторый социальный и психологический интерес. Я родился в разгар крепостного ужаса. Передо мною прошли картины рабства семейного и общественного. Мне приходилось быть свидетелем постепенных, а под конец и чрезвычайно быстрых перемен в настроениях целых классов. На моих глазах разыгрывалась борьба детей с отцами и отцов с детьми, крестьян с помещиками и помещиков с крестьянами, пролетариата с капиталом, науки с невежеством и с религиозным фанатизмом, видел я и временное торжество тьмы над светом.В «Романе моей жизни» читатель найдет правдиво собранный моею памятью материал для суждения об истории развития личности среднего русского человека, пронесшего через все этапы нашей общественности, быстро сменявшие друг друга, в борьбе и во взаимном отрицании и, однако, друг друга порождавшие, чувство правды и нелицеприятного отношения к действительности, какая бы она ни была.

«Почтовая кибитка поднялась по крутому косогору, влекомая парою больших, старых лошадей. Звенел колокольчик. Красивая женщина лет двадцати семи сидела в кибитке. Она была в сером полотняном ватерпруфе…».

«В углу сырость проступала расплывающимся пятном. Окно лило тусклый свет. У порога двери, с белыми от мороза шляпками гвоздей, натекла лужа грязи. Самовар шумел на столе.Пётр Фёдорович, старший дворник, в синем пиджаке и сапогах с напуском, сидел на кровати и сосредоточенно поглаживал жиденькую бородку, обрамлявшую его розовое лицо.Наташка стояла поодаль. Она тоскливо ждала ответа и судорожно вертела в пальцах кончик косынки…».

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — русский писатель, журналист, поэт, литературный критик, переводчик, драматург, издатель и мемуарист.

«Дом, в котором помещалась редакция „Разговора“, стоял во дворе. Вышневолоцкий вошел в редакцию и спросил в передней, где живет редактор „Разговора“ Лаврович.– А они тут не живут, – отвечал мальчик в синей блузе, выбегая из боковой комнаты.– А где же?– А они тут не служат.– Редакция „Разговора“?– Типография господина Шулейкина…».
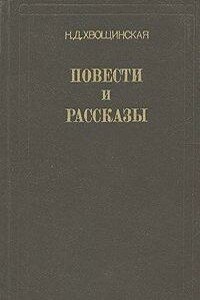
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Утро. Кабинет одного из петербургских адвокатов. Хозяин что-то пишет за письменным столом. В передней раздается звонок, и через несколько минут в дверях кабинета появляется, приглаживая рукою сильно напомаженные волосы, еще довольно молодой человек с русой бородкой клином, в длиннополом сюртуке и сапогах бурками…».

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
