Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг. - [2]
В советской историографии уже были предприняты попытки (Е.Д. Черменским, В.Я. Лаверычевым, А.Г. Слонимским, В.И. Старцевым, А.Я. Аврехом, В.С. Дякиным; анализ работ см. в части I, главе 1) представить действия великих князей накануне Февральской революции как согласованные с действиями думской оппозиции.
Став посредниками между императором и оппозиционными силами, великие князья были вынуждены солидаризироваться в своих требованиях с оппозиционными бюрократическими, военными и думскими кругами, тем самым, способствуя углублению предреволюционного кризиса.
В данной работе прослежены все контакты великих князей с оппозиционными кругами. Установлено, что в своих требованиях великокняжеская оппозиция смыкалась с требованиями части высшей политико-административной элиты, военных (М.В. Алексеев, А.А. Брусилов), гражданских (кн. В.М. Волконский, П.М. Кауфман, гр. П.Н. Игнатьев), а также церковных кругов (Г. Шавельский). На формирование требований оказывали влияние лидеры думской оппозиции (В.А. Маклаков, В.М. Пуришкевич, М.В. Родзянко) и общественные деятели (кн. Г.Е. Львов).
В исследовании доказывается, что идея великокняжеской оппозиции как коллективного выступления сформировалась под влиянием бюрократических и думских кругов 8 ноября 1916 г. Ввиду отказа великого князя Николая Михайловича возглавить этот протест, данная идея была реализована великим князем Павлом Александровичем 3 декабря 1916 г.
Анализ коллективного прошения великих князей от 29 декабря 1916 г. приводит к мысли, что целью прошения являлось не столько смягчение участи великого князя Дмитрия Павловича, сколько утверждение о невозможности ссылки кого-либо из великих князей. Это, по сути, было последней попыткой сохранения статуса великих князей в правящей элите России.
В ходе работы установлен один из редакторов писем политического содержания императору Николаю II в январе – феврале 1917 г., подписанных чиновником А.А. Клоповым и редактируемых великим князем Михаилом Александровичем. Им был князь Г.Е. Львов.
Данная работа является комплексным исследованием политической роли великокняжеской оппозиции.
Часть I. Великие князья: от опоры монархии к оппозиции самодержавию
Глава 1. Источники и историография по проблеме великокняжеской оппозиции 1915–1917 гг.
При написании данной работы были использованы различные источники, среди которых документы нескольких фондов РГИА. Это документы из фонда 516: Журнал пребывания Николая II в действующей армии[1], камер-фурьерский журнал императора Николая II[2], а также камер-фурьерский журнал императрицы Марии Федоровны в Киеве[3]. Названные архивные источники позволяют проследить и уточнить местонахождение царствующих особ, а также пребывание интересующих нас лиц в том или ином месте в исследуемый промежуток времени.
Из числа документов, хранящихся в личных фондах РГИА, использованы записная книжка и дневник барона Н.А. Врангеля[4], являвшегося адъютантом великого князя Михаила Александровича. Они содержат важную информацию о взаимоотношениях великого князя с императором и позволяют проследить картину событий, связанных с ноябрьским «штурмом власти» 1916 г.
В числе других документов, использованных в работе, неопубликованные письма чиновника А.А. Клопова[5] императорской чете за 1916 г. На письмах есть пометки великого князя Николая Михайловича.
Авторами использованы и опубликованные документы. К ним следует отнести стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства[6]. Наиболее полезными для исследования оказались показания А.И. Гучкова, А.Д. Протопопова, С.П. Белецкого и А.А. Поливанова.
Из периодических изданий при написании работы использовались материалы киевской газеты «Киевская мысль»[7] за сентябрь – октябрь 1916 г., московской газеты «Русское слово»[8]и петроградских газет: «Биржевые ведомости»[9] за март 1917 г. и «Речь»[10] за сентябрь – октябрь 1916 г.
К наиболее достоверным опубликованным источникам следует отнести переписку императора Николая II с великими князьями[11], в частности, письма великих князей Николая Николаевича, Дмитрия Павловича, Павла Александровича, Николая Михайловича, Александра Михайловича, Георгия Михайловича, а также великой княгини Милицы Николаевны к императору Николаю II. Многие из этих посланий неоднократно использовались исследователями, однако некоторым из них не уделялось должного внимания.
«Переписка Николая и Александры Романовых»[12] также достаточно часто используемый источник, содержащий большое количество как фактического материала, так и оценочных суждений последней императорской четы.
Источником, до сих пор не использованным в полной мере, являются письма великого князя Николая Михайловича к его другу, французскому историку Ф. Массону. Письма были опубликованы в Париже в 1968 г.[13] Авторами осуществлен перевод писем 41–50, охватывающих период с 20 ноября (3 декабря) 1916 г. по 14 (27) апреля 1917 г., в которых идет речь о визите великого князя Николая Михайловича к Николаю II 1 ноября 1916 г., об обстоятельствах, связанных с убийством Г.Е. Распутина, и подробностях ссылки великого князя в его имение Грушевку. Данные письма можно рассматривать и как самостоятельный исторический источник – настолько они объемны и информативны, – и как существенное дополнение к запискам великого князя Николая Михайловича, о которых речь пойдет далее.
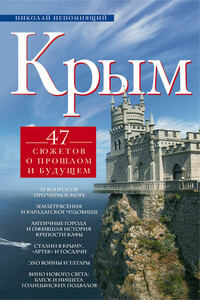
На небольшом клочке суши переплелись в сложном узоре уникальные ландшафты, исторические события, людские судьбы. Каждый найдет здесь кусочек своей родины: альпийский луг, азиатскую пустыню, среднерусское поле, таежный бурелом.Крым был яблоком раздора для десятков стран и империй.Много прошло по дорогам полуострова народов, культур, религий. И все они оставляли здесь частичку своих традиций и обычаев, частичку своей культуры и души.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.