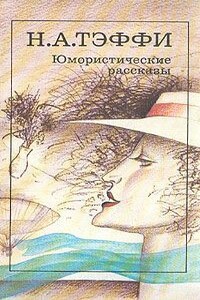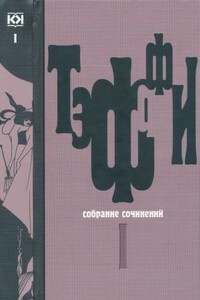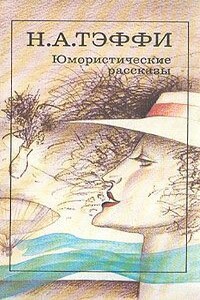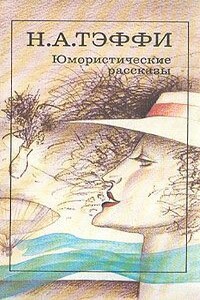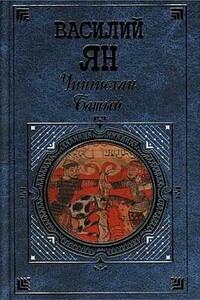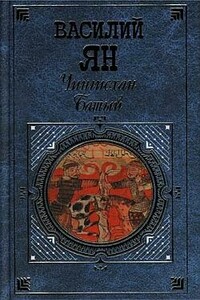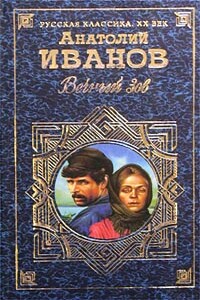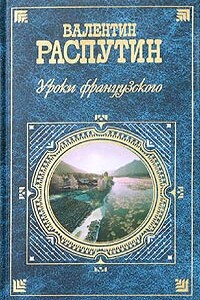В тот день он был какой-то белый, очень чистый, в вороте холщовой рубахи ярко-зеленая тесемочка. Все это было торжественно и подчеркивало серьезность его решения.
Так он и ушел. Но не совсем. То есть прислуга и мы, дети, знали, что не совсем…
Вывелись в курятнике цыплята. Все желтенькие, один черный. Все вместе, один – особняком.
Стали расти, покрываться перьями, – а черный почти весь голый, так, кое-где перо, а сам точно горбатый и к тому же кривой, – а никто его и не бил – куда же глаз девался?
Вот тут люди понимающие и стали догадываться.
– Цыпленок-то – а? Понимаешь?
– Ой, господи, неужто Панас?
– Что же теперь будет-то?
– А уж что-нибудь да будет… – А цыпленок рос злющий.
Мы бегали на него смотреть. Стоит на навозной куче, на самой верхушке, один, маленький, горбатый, голый, голова набок, одним глазом моргает и подойти другим цыплятам к себе не дает, так и подпрыгивает со злости.
Сверстники его подросли, закукарекали молодыми петушиными голосами, а этот, злющий, и расти перестал, так маленьким и остался. Но корму требовал, по словам ключницы, столько, сколько десять больших петухов не склюют.
– На что его, такого, держать-то? – заметил кто-то.
– А вот попробуй, зарежь. Он те покажет! – отвечали ему.
Называли цыпленка «колдун». Прямо звать Панасом боялись.
Кончилась его история странно.
По словам многих свидетелей, среди бела дня вдруг Колдун голову задрал и громко запел. Запел и побежал в лес. Лесок тут как раз, около курятника, начинался.
Ну где это видано, чтобы петухи в лес бегали? Да ведь как скоро! – будто позвал его кто.
Запел и побежал в лес. Так и не вернулся.
– Правда, что это Панас был? – спрашивали мы. – Зачем же он приходил-то в цыплячьем виде?
– А это уж не нашего ума дело, – отвечали люди понимающие. – Раз приходил, значит, так уж надо было. И разве все человек понять должен?